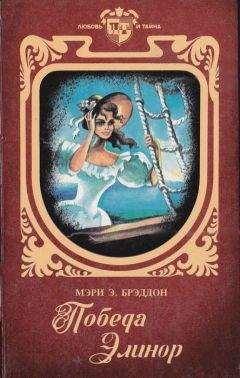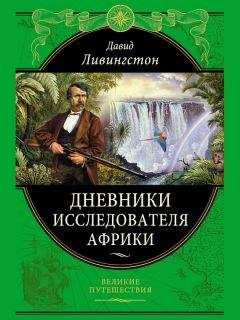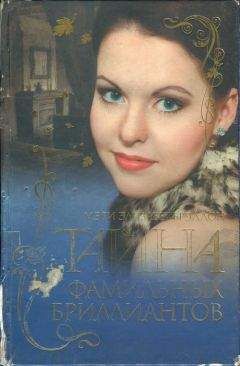«Но теперь не удастся ей обмануть меня, — думал он, угрюмо, смотря на прекрасное лицо, обращенное к нему, — что бы она ни говорила, я не поверю ей».
— Надо ли говорить, Джильберт, зачем я просила тебя сохранить мою тайну? — продолжала Элинор, — я просила о том, потому что имела причину, побуждавшую меня приехать в эти места. Причина эта была сильнее даже моей любви к тебе, Джильберт, хотя я любила тебя, Джильберт, более чем воображала, что могу любить, потому что я не могла думать ни о чем другом, кроме как о той причине, которая стала единственной целью моей жизни.
У Монктона судорожно искривилась верхняя губа от негодования. «Она любила его! Однако это чересчур уж нелепо: всю жизнь быть игрушкою вероломных женщин. В летах мужества быть обманутым и осмеянным, как в первой молодости и всегда любимою женщиною!» При мысли о своем безумии, он презрительно улыбнулся.
— Ланцелот Дэррелль! — воскликнула Элинор внезапно изменившимся голосом, — должна ли я сказать вам, что заставило меня вернуться по соседству со здешними местами? Должна ли я объяснять, почему желала сохранять втайне мое имя от вас и от ваших родных?
У молодого человека и руки опустились, он поднял голову и взглянул на Элинор. Изумление и ужас выразились на его лице: он удивился, почему жена Монктона обращается к нему, и ужасался сам еще не зная чего.
— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, мистрис Монктон, — сказал он, запинаясь. Какое мне дело до вашего фальшивого имени или до вашего приезда сюда?
— Очень важное! — воскликнула Элинор, — это было сделано для того, чтобы жить вблизи вас.
— Я так и думал! — пробормотал Монктон, — едва переводя дыхание.
— Для того, чтобы жить вблизи вас, — повторила Элй-нор, — да, Ланцелот Дэррелль, чтобы жить вблизи вас, я так страстно желала возвратиться сюда, так страстно, что готова была прибегнуть к хитрости, подвергаться опасности — на все решиться, только бы ускорить свое возвращение сюда. Для этого я решилась на самый важный шаг в жизни женщины, совсем не думая о его важности. Имя мое сохранялось втайне для того, чтоб обмануть вас. Я возвратилась сюда за тем, чтобы обличить вас, Ланцелот Дэррелль, как злодея, который мошеннически обыграл несчастного старика, вы заставили его проиграть чужие деньги, и он не вынес этого позора и осудил себя па самоубийство. Долго выжидала я этой минуты, наконец она наступила. Благодарю тебя, Боже! что я дожила до этой минуты.
Ланцелот Дэррелль вскочил со своего места. Его бледное как смерть лицо обратилось к Элинор и глаза остановились на ней в оцепенении от ужаса. В первую минугу замешательства ему хотелось броситься вон из комнаты, чтобы скрыться от этой женщины, которая во время только что совершенного преступления напомнила ему прошлое злодеяние. Но он стоял неподвижно, точно окаменевший, под влиянием волшебной силы устремленного на него взгляда. Элинор стояла между трусом и дверыо: не было возможности бежать от нее.
— Теперь вам известно, Ланцелот Дэррелль, кто я и как мало милосердия вы можете ожидать от меня, — продолжала Элинор звучным металлическим голосом, с которым обращалась к своему врагу. — Вспомните число одиннадцатое августа! Вспомните ту ночь, когда вы встретили моего отца на бульваре, в ту ночь я стояла возле отца и крепко ухватилась за его руку, когда вы со своим гнусным сообщником старались оторвать его от меня. Богу известно, как я любила отца! Богу известно, с каким счастьем я дожидалась этого будущего, чтобы жить с ним, работать для него! Ему одному известно, как отрадно осуществилась бы эта любимая мечта моего детства! Но вы — вы— да падет на вашу голову преступная смерть старика! да падет на вашу голову погибшая надежда его дочери! Теперь вы угадываете, зачем я попала сюда ночью и что я здесь делала! Теперь вы можете понять, какого милосердия должны ожидать от дочери Джорджа Вэна.
— Дочь Джорджа Вэна!
В безмолвном ужасе Сара и Лавиния подняли руки и глаза к небу. Неужели это та самая женщина, та ядовитая змея, которая нашла доступ в самое сердце крепости, так ревностно охраняемой, то самое ужасное существо, которое они менее всего допустили бы к покойному дядюшке?
Нет, это невозможно! Ни одна из племянниц де-Креспиньи не слыхивала о рождении младшей дочери Джорджа Вэна. Покойный дядя их получил известие о ее рождений в письме присланном украдкою, но сохранял это известие втайне.
— Какая нелепость! — сказала мисс Лавиния наконец, — у Джорджа Вэна младшая дочь Гортензия Баннистер, по и той уже по крайней мере тридцать пять лет.
Но Ланцелоту это было лучше известно. Он вспомнил страшную картину, представлявшуюся перед его глазами при сером рассвете августовского утра. Он вспомнил седого старика, посреди изношенной роскоши второклассной кофейной, плакавшего о своей младшей дочери, оплакивающего потерю денег, которые следовало заплатить за ее воспитание, несчастного, убитого горем старика, который, протянув над ним руку, проклял злодея, мошеннически обыгравшего его.
Как теперь, видел он фигуру этого старика с дрожащими руками, поднятыми над ним! Как теперь, он видел это морщинистое лицо, такое дряхлое, болезненное в это серое августовское утро, и слезы, струившиеся из его тусклых голубых глаз! С тех пор он жил под бременем этого проклятия и ему казалось, как будто все это совершилось только в настоящую ночь.
— Я — Элинор Вэн, я родная по отцу сестра Гортензии Баннистер. Из глупой гордости она заставила меня ехать в Гэзльуд под чужим именем. Но я, чтоб отомстить Ланцелоту Дэрреллю, сохраняла и впоследствии настоящее имя мое втайне!
Элинор Вэн! Элинор Вэн! Возможно ли это? Из всех людей, кого Ланцелот боялся, Элинор Вэн казалась ему страшнее всех. Если бы он даже не поступил так жестоко с ее отцом, если б даже не был и косвенною причиною его смерти, так и тогда он имел причины бояться ее: он хорошо знал эти причины, и упал опять в кресло бледный и дрожащий, как дрожал в то время, когда крал ключи, лежавшие близ покойника.
— Морис де-Креспиньи с моим отцом были искренние друзья, — продолжала Элинор.
Ее голос изменялся, когда она произносила имя отца, и светлое ее лицо покрывалось нежным оттенком грусти.
Она никогда не могла ни слышать, ни произносить имени отца без особенной грустной нежности, выражавшейся во всей ее физиономии.
— Всем здесь известно, — продолжала она, — как они искренне любили друг друга, и мой бедный, мой дорогой отец всегда питал безумную надежду, что после смерти Мориса де-Креспиньи он получит в наследство этот дом и все его имение, и что он опять разбогатеет и мы с ним заживем счастливо. Я никогда не верила этому.