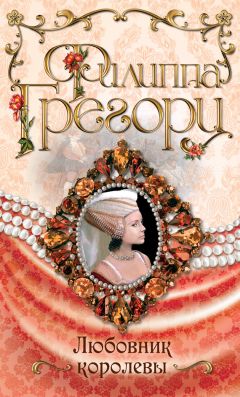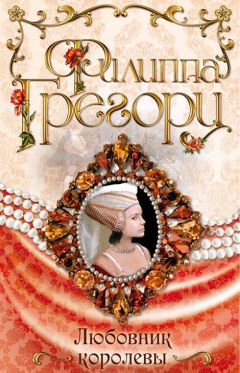— Они у господина Мосса.
— Это не я, а он, хандра моя во плоти, — главный покровитель «Каббалистической почты». Когда он выпросил у меня перстень с солитером, я и подумать не мог, какую кашу вы с ним завариваете, — сказал Светлейший. — И по сей день вспомнить не могу эту Лисицыну. Ни лица, ни прелестей.
— Ваше сиятельство, я хочу возместить все расходы на «Каббалистическую почту», — поглядев на большие напольные часы, сказал Световид. — А перстень, который дал мне господин Мосс, я верну в ближайшем времени.
— Он знал всю вашу историю?
— Да, знал.
— Перстень, сдается, ваш фамильный? Забирайте!
— Пусть он останется вам, ваше сиятельство, на память об этом приключении.
— Там весьма почтенный солитер.
— Ну и что?
— Доподлинно флегматик. Что ж ты материнскую родню не умел сыскать?
— Кабы я знал, что госпожа Захарьина — мне родная бабка, сразу бы к ней побежал, и уж она бы правды добилась. Ее и покойная государыня очень любила, и ныне царствующая. Но я узнал это лишь теперь, из ее завещания. Покойный дед умел тайны хранить. А она скончалась через два месяца после деда, уверенная, что я еще не вернулся из Парижа.
— У нее была репутация неприступного бастиона… — задумчиво сказал Потемкин. — Выходит, в молодости она была хороша собой?
— Вы изволите искать в моей физиономии черты бабкиной красоты? — спросил Световид. — Я, сказывали, скорее в батюшку покойного уродился.
Мосс во все время этой русской беседы сидел на черном стуле и листал книжку в черном переплете, жалея, очевидно, что нет еще книг с черными страницами. Дважды приотворялась дверь, и Мосс вполголоса говорил тому незримому, кто за ней прятался, что его сиятельство занят государственным делом. На третий раз он выслушал почти беззвучный доклад и подошел к господину.
— Ваше сиятельство, ищут господина Ша. Я знаю того человека, который прибежал и ждет в прихожей. Это один из типографщиков.
— Меня, здесь? — переспросил Световид, сразу перейдя на французский.
— Да, сударь.
Мосс всем видом дал понять — дело серьезное.
— Тащи его сюда, и без китайских церемоний, — князь запахнул халат.
Через несколько минут быстро вошел Дальновид, поклонился с ловкостью придворного кавалера и посмотрел на Световида, словно прося разрешения заговорить.
— Ваше сиятельство, сотрудник мой, Роман Никитин, острое перо и талант добывать сведения, — рекомендовал Световид.
— Что там у тебя, Никитин? — спросил князь.
— Говори прямо и кратко.
— Лисицыны бежали! Догадались, что завещание нашло законного наследника, и на воре шапка загорелась! Бежать решили в Курляндию, оттуда морем — куда-нибудь подальше от России. Миловида… Госпожа Суходольская подслушала их, сумела вырваться из лисицынского дома и, рискуя жизнью, прибежала к нам. Ее преследовали, она стреляла, и нам пришлось стрелять, чтобы спасти ее.
— Все убежали? — спросил Световид.
— Так вышло, что к ним приехала княгиня Ухтомская, они и ее прихватили. Говорил же я, что она в этом деле с завещанием увязла по самые уши! И головорезов своих Лисицын взял, и лучших лошадей, и обоих рысаков. Когда прибежала Миловида, они как раз узлы вязали, надобно спешить!
— Я пошлю к обер-полицмейстеру, — сказал Потемкин. — Это его ремесло — мазуриков догонять.
— Ваше сиятельство, я сам должен изловить убийцу, — возразил Световид. — Изловить и представить властям. Это мой долг — и очень давний… Тем более, я сделаю это быстрее полицейских, ведь я и мои люди знаем неприятеля в лицо.
— Сколько вас?
— Пятеро, ваше сиятельство.
— Ты сдурел? Пятеро! Мало! Бери моих гайдуков, все равно без дела сидят. Господин Мосс, поди, вели им собираться. И с лошадьми! И при оружии! Живо! Полдюжины дам — но чтоб мне первому про все доложил. Понял, Тропинин?
Когда на Миллионной, где Световид с Дальновидом ждали, сидя в санах, обещанных гайдуков, появились всадники, окно второго этажа дворцового корпуса отворилось. В окне стоял Потемкин в распахнутом халате.
— Эй! Тропинин! Заводных лошадей возьми! Лучших! Слышишь, флегматик? Спосылай кого-нибудь за заводными!
— Слышу, ваше сиятельство, — отвечал Световид.
Говорить уже было не о чем — все выкрикнули при сборах. Лисицын сидел угрюмый, княгиня наконец расплакалась, но утешений ни от кого не дождалась Лиза глядела в окошко. А Санька молчал оттого, что ни черта не понимал, а спросить боялся, и впрямь — страшновато задавать вопросы господину, у которого промеж колен торчит не модная трость, а охотничье ружье.
Все было похоже на дурной сон, в котором черти тащат тебя в ад и сопротивление бесполезно. Он понимал, что надо бы удрать, и это очень просто — открыть дверцу экипажа и выброситься в снег. Никто ради него останавливаться не станет.
Но он медлил, медлил… Он не понимал, до какой степени им может владеть страх. До сих пор фигуранту Румянцеву особо трусить не приходилось. Самое страшное — опоздав на репетицию или спутав фигуры в танце, получить нагоняй от надзирателя Вебера, три раза нагоняй завершался оплеухой. Да и то, так себе — Вебер понимал, что выбить зубы фигуранту нетрудно, но потом придется отвечать в дирекции за членовредительство. Кому нужен беззубый танцовщик? А в обучение этого танцовщика, между прочим, казенные деньги вложены!
Мир, в котором обитала береговая стража, ограниченный сзади — необъятной холстиной с горами и морями, спереди — залом, в котором громоздятся друг на дружку сотни рож, образин и харь, с боков — уборными, где модно сыграть в дурака или нарваться на очередную проделку, а сверху и снизу, как у всего человечества, небесами и преисподней, — этот мир был, в сущности, безопасен. Вопроса, жизнь или смерть, в нем никогда не звучало. Можно было прожить в нем сорок лет, ни разу не узнав страха, разве что в старости, предсмертного.
Санька просто не был готов к потрясениям. Он не знал, что от потрясений руки-ноги отказываются слушаться, а голова работает очень плохо.
Мужчины в экипаже сели на переднее сиденье, спиной к движению, дамы — на заднее. И все завернулись, укутались потеплее, каждый берег свое тепло, словно рассчитывал — на много ли часов пути его хватит.
Лисицын постучал в переднее окошечко, но экипаж не мог двигаться быстрее — кони не крылаты. Фролка нахлестывал их, совсем одурев, — балованный кучер, привыкший красоваться на столичных улицах и тоже не понимающий, отчего в голове с перепугу всего одна мысль: вперед, вперед!
Но столичные улицы прямы — такими начертал их на плане Петр Великий. А лесная дорога, выбранная Лисицыным, пряма, да не совсем, и способна делать неожиданные повороты. В лесу их сразу и не разглядишь.