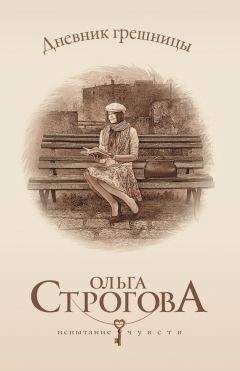Родители, естественно, ничего не заметили.
«Вот так, – с грустью подумала Ирина Львовна. – Кто я ему? Кто я его сыну? Даже его жена не воспринимает меня как возможную соперницу».
Последнее, впрочем, к лучшему.
Но хватит об этом. Пора, наконец, посмотреть, как обстоят дела у Аннушки.
Ирина Львовна сгребла оставленные Карлом листы, прихватила недоеденную булочку с малиновым джемом и отправилась к себе в номер.
* * *
Милая Жюли!
В дороге со мной не случилось ничего примечательного. Я была уверена, что в поезде не сомкну глаз от волнений и предвкушения близкой встречи с Алексеем; однако крепко проспала всю ночь под стук колес и проснулась, когда за окном показался заснеженный, весь в глубоких синих сугробах, Петрозаводск.
Не успела я сойти с подножки вагона, как была окружена извозчиками и гостиничными маклерами с самыми заманчивыми предложениями. Но узнав, что вместо гостиницы мне требуется имение графа Безухова, почти все они потеряли ко мне интерес. Остался лишь один мужичок с красным не то от мороза, не то от водки носом, который сразу же стал рядиться за шесть целковых.
Несмотря на шесть целковых, хриплый голос и красный нос, вид у него был вполне добродушный; к тому же у меня не было выбора. Я согласилась.
Мужичок подхватил мой сак[1] и чемодан и резво двинулся к выходу с платформы.
– Ты, Лексей, смотри, барышню-то не вывали в сугроб! – крикнули нам вслед. Мужичок только качнул своей большой, в овечьем треухе, головой, пробормотав: «Ишь ведь, насмешники… нешто я вываливал…»
Я же увидела в этом совпадении имен добрый знак, знак судьбы.
И даже то, что сани у мужичка оказались сущей развалюхой, а лошади – весьма почтенными одрами, не могло повлиять на мое настроение.
– Держись, барышня! – залихватски крикнул мой возничий, взмахнув кнутом. – Не кони – звери! Мигом домчим, с ветерком!
Вопреки ожиданиям, тройка довольно лихо взяла с места. Дорога была гладкой и хорошо укатанной, в неказистых санях под меховой полостью оказалось тепло и уютно, и я снова предалась мечтам. Между тем город сменили заснеженные поля, а затем и еловый лес. Высоченные хвойные деревья темно-зеленой стеной обступили снежно-голубую дорогу.
То ли из-за окружившей нас торжественной, как в храме, тишины, то ли из-за того, что начала спотыкаться левая пристяжная, тройка замедлила ход.
Мужичок принялся подбадривать лошадей кнутом и энергичными народными словами. К счастью, усадьба графа находилась уже близко. Дорога, изогнувшись, вывела из леса на высокий берег заснеженного озера, по другую сторону которого угадывались очертания господского дома с колоннами.
– А вы барину Алексею Николаевичу кем изволите приходиться? – полюбопытствовал мужичок, когда мы через открытые ворота въехали в липовую аллею.
– Любопытен ты, однако, – заметила я. – Лучше следил бы за лошадьми. Вон, у тебя левая пристяжная совсем захромала!
– Ваша правда, барышня, – смиренно согласился мужичок, подъезжая к очищенной от снега парадной лестнице, охраняемой по бокам двумя мраморными львами. – Перековать бы…
Я, сдерживая нетерпеливое биение сердца, отсчитала деньги.
Из дверей уже появился величественный, в темно-зеленой ливрее с серебряным позументом и серебряными же бакенбардами, швейцар.
– Прибавить бы надо, – продолжал мужичок, – домчали-то вихрем… да и кузнецу-выжиге платить…
Не споря, чтобы поскорее отделаться, я сунула ему еще рубль.
* * *
– Мое имя – Анна Владимировна Строганова. Доложите обо мне как можно скорее графу.
– Их сиятельства нет дома-с, – поклонился швейцар, окинув оценивающим взглядом мой потертый багаж.
– Будут только к вечеру, а то и завтра утром. Доложить разве барыне?
Сердце у меня упало. Я ведь была уверена, что непременно застану его дома, и гадала лишь о том, какое выражение появится на его лице, когда он увидит меня и узнает, зачем я приехала.
– Так я доложу их сиятельству графине, – принял решение швейцар.
Я кивнула. Мои вещи внесли в просторную, прекрасно освещенную прихожую. Несмотря на большие, совершенно не свойственные нашим северным домам окна, в прихожей было тепло и приятно пахло лимонником. Источником тепла служил новомодный калорифер, свинцовые трубы которого скрывала деревянная решетка тонкой и изящной работы.
Если не считать вешалки, спрятанной за дубовой стойкой и рассчитанной на большое количество людей, как в каком-нибудь театре, прихожая была пуста.
Швейцар безмолвно принял мой старенький салопчик, капор и шаль и распахнул передо мною двери гостиной. Ах, Жюли, в тот момент я ощутила и неловкость оттого, что весь мой гардероб, принятый швейцаром, стоил меньше роскошного серо-голубого турецкого ковра, устилающего пол гостиной; и мимолетный страх перед встречей с женой графа; и даже желание немедленно повернуться и покинуть этот просторный и благополучный дом, в котором, должно быть, живут в свое удовольствие, устраивают балы и праздники и охотно принимают гостей более солидных и значимых, нежели дочь обнищавшего петербургского дворянина.
Но я справилась и с этим страхом, и с этим желанием. Я присела на низкий диванчик, обтянутый бархатистой, в тон ковра материей, и приготовилась ждать.
Ждать, впрочем, пришлось недолго.
В дверях, открывшихся словно сами собой, показалась величественного вида дама, одетая в черное.
Мимо дамы почтительно проскользнул лакей.
Она опустилась в кресло, стоявшее отдельно от других, рядом с мозаичным столиком для рукоделия. Лакей тут же пододвинул ей обтянутую той же материей скамеечку для ног и, пятясь задом, удалился. Оказавшись рядом со мной, он шепнул:
– Их сиятельство графиня Мирослава Тодоровна.
Дама окинула меня внимательным взглядом, взяла со столика начатую вышивку broderie anglaise, сделала несколько стежков и лишь после этого заговорила со мной.
Я воспользовалась этими несколькими секундами, чтобы так же внимательно рассмотреть графиню.
Несмотря на годы (ей было, верно, около сорока) и явные намеки на седину в густых, иссиня-черных, убранных на затылке в простой узел волосах, графиня положительно была красавица.
Ее бледное лицо являло собой совершенный овал. Большие агатовые глаза, осененные густейшими черными ресницами, прямой нос, яркие и свежие, как у девушки, коралловые губы словно сошли с портрета итальянского художника, вознамерившегося написать Юнону или Минерву.
Роста она была среднего, но держалась так прямо и с таким надменным достоинством, что казалась значительно выше, почти с меня. Телосложение ее скрывалось черным шелковым платьем с высоким, отделанным кружевом воротом; на платье была наброшена черная же кружевная шаль.