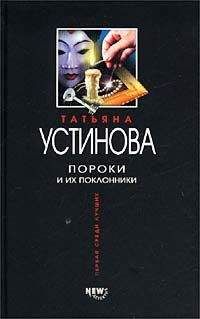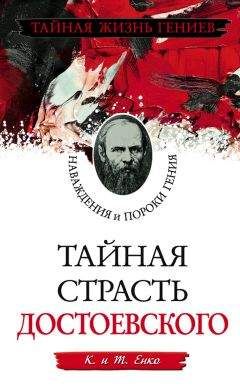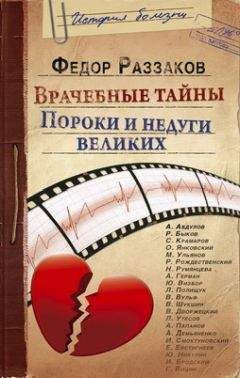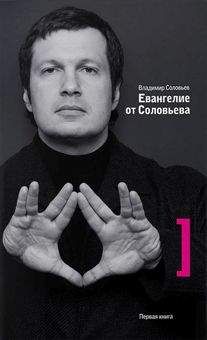– Да зачем нам ехать в Чертаново, когда есть милейший человек, Грубин Леонид Иосифович, гораздо ближе?!
– Мне там удобнее. Вы подпишете документы, возвращающие мне право на квартиру?
Это уж вовсе не лезло ни в какие ворота.
– Я подпишу, если вы сегодня вечером приедете ночевать домой и объясните мне, что происходит.
– Я не могу.
– Тогда и я не могу. Воцарилось молчание.
– Владимир Петрович, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Она вам и вправду не нужна, эта квартира! А мне… мне надо где-то жить.
– Возвращайтесь и живите сколько хотите. Я в ней жить не собираюсь.
– Мне нужны бумаги!
– А мне нужен внятный ответ, что происходит. Опять молчание – как в могиле.
– Я прошу вас, – прошептала она ему в ухо, и он сильно вздрогнул, – я вас умоляю, пожалуйста. Пожалуйста…
Архипов быстро посмотрел на телефон – номер не определился. Он никогда не определялся, если звонок шел через коммутатор. Владимир Петрович выбрался из-за стола и, пятясь и придерживая шнур, чтобы не потащить за собой аппарат, добрался до кабинетной двери.
– Не знаю, что и сказать, – признался он Маше, – все это как-то неожиданно…
И толкнул дверь. Секретарша вопросительно выглянула из-за компьютера.
– Владимир Петрович, я знаю, что это неожиданно, и я благодарна вам за ваше благородство, но мне очень нужно, чтобы мы все оформили именно завтра.
– А что, у вас завтра день рождения? – осведомился он и, прикрыв ладонью трубку, быстро спросил у секретарши: – Кать, номер есть?
Секретарша посмотрела на панель.
– Нет.
– А что написано?
– Владимир Петрович, вы слышите меня?
– Да-да.
– Private call, – прочитала Катя, – частный вызов.
– Часа в четыре, Владимир Петрович! В Чертанове. Давайте встретимся около метро, где выход из последнего вагона.
– Антиопределитель?
Секретарша пожала плечами:
– Скорее всего.
– Из последнего вагона метро, ладно?
– Я не езжу на метро.
– Вы сможете туда подъехать на машине! Пожалуйста! – И вдруг опять в самое ухо тем же кипящим шепотом: – Я очень вас прошу…
– Хорошо, – согласился Архипов, – завтра в четыре, метро “Чертановская”, выход из последнего вагона от центра.
– Спасибо, – бойко поблагодарила Маша и повесила трубку.
Архипов посмотрел на секретаршу, а та на него.
– Что случилось? – спросила она через некоторое время. – Любимая загуляла?
– Ты моя любимая, – задумчиво уверил секретаршу Архипов.
– Ты со мной поосторожней, – сказала Катя, рассматривая его, – я женщина – мать двоих детей. Что случилось, Володь?
– Какой-то странный звонок. – Архипов переложил трубку в другую руку и взялся за спину. – Очень странный.
– В следующий раз не соединять?
– Как раз соединять!
– Чаю, Володь?
– Да. Давай.
Он вернулся в кабинет, пристроил трубку и задумчиво ткнул компьютерной мышью в мышь летучую на мониторе, как джинна из бутылки, вызывая всесильный Интернет.
Что за звонок? Что за тон? Что за спешка?
Откуда она звонила? Откуда у нее его рабочий телефон? Откуда у неведомой подруги антиопределитель – устройство недешевое и бессмысленное? Или подруга – профессиональный телефонный шантажист?
Мышь взмахнула крыльями в последний раз, программа загрузилась, и Архипов велел поисковой системе наставить его на путь истинный, то есть на “Путь к радости”.
В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Катя с подносиком.
– У тебя в пять совещание, помнишь?
– Да. – Архипов оторвался от монитора и посмотрел на высокую кружку в форме пагоды. Крыша пагоды тихонько звякнула, когда Катя осторожно поставила ее на стол.
– Отмени совещание, Кать. Я, наверное, не смогу.
– Хорошо, – не моргнув глазом, согласилась Катя. – Совсем отменить или перевести на Борисоглебского?
– Отмени совсем. Борисоглебский моих вопросов не знает, а просто так совещаться – только зря время тратить.
– Может, тебе помочь, Володь? Он покачал головой.
Поисковая система вывалила на монитор целый лист “путей” и “радостей”. Архипов покопался в них и выудил то, что ему нужно.
Сайт оказался сказочной красоты – портрет величественного, как океан, простого, как правда, ясного, как летний полдень, просветленного, как сковорода, вымытая “Прилл-бальзамом”, человека средних лет красовался в центре экрана, а от портрета в разные стороны шли лучи – как бы сияние и одновременно как бы “пути”, и все, очевидно, “к радости”. Архипов стал читать и читал довольно долго. Ничего особенного. Никакого экстремизма. Некая смесь из постулатов любого экологического движения с цитатами из Библии и сладкими выдумками изображенного на портрете “посвященного”.
Города задыхаются. Мир наживы давит. Реклама уводит. Химия убивает. Ценности подменяются. Нравы падают. Семья разваливается. Кругом разврат и вообще глобализация. Это в настоящем.
В будущем и прошлом – трава растет. Деревья цветут. Планета-рай. Все люди братья. Гармония с природой. Волк целует ягненка. Ягненок целует гепарда. Гепард целует младенца – все целуются. Земля родит сама, и работать на ней не надо. Знания приходят через ощущения – учиться тоже не надо. Мужчина и женщина – вселенная, тех и других поровну, по одной на одного. Никаких измен и проблем. Взявшись за руки, все устремляются в вечность.
Достичь этого очень просто – надо вступить на “Путь к радости” и идти по нему вместе с “просветленным и посвященным”. В конце упоминалось – до кучи, как решил про себя Архипов, – что он брат Иисуса.
Архипов потыкал в баннеры, изучил ссылки, просмотрел график выступлений, охватил список литературы, которую “посвященный” рекомендовал для чтения, – в основном собственного авторства или же изданные отклики уже ознакомившихся с его творчеством восторженных читателей.
Ничего особенного. Совсем ничего особенного.
Таких “Путей к радости” в едва отвязавшейся от коммунизма России – великое множество. Человеку надо во что-то верить, в коммунизм больше никак не верится, а в бога верить трудно, вот он и верит, бедолага, в то, что “энергия добра пространство вечное насквозь пронзает, и устремляется душа по звездному пути, когда в саду прекрасном распускается любви цветок”!
Архипов вытер лоб и быстро посмотрел по сторонам – хорошо хоть секретарша не видит, чем он занимается.
Энергия добра!
Он открыл главы из последней книги “посвященного” – называлась она, конечно же, “Исцеление добротой”, и портретик автора, искрящегося этой самой добротой так, что смотреть на него было больно, – и почитал немного.
Вот черт.
Лизавета говорила точно так же, как писал автор, – некой пародией на белый стих, очень возвышенной и потому раздражающей.