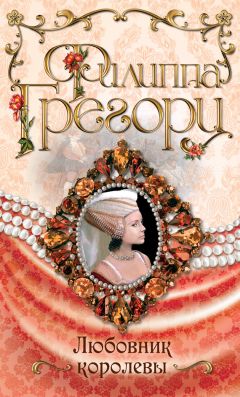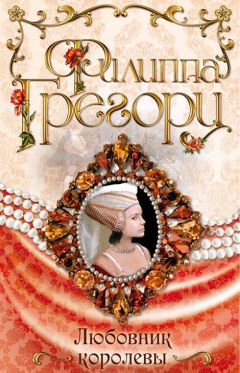— А вот что, Выспрепарище, — сказал Дальновид, отодвигая плошку. — Может статься, этот, с перебитым носищем, как раз теперь нам и нужен. Он-то постоянно в театре, от нее поблизости, он мог до того докопаться, что нам и не снилось. Не напрасно же прискакал под окошко чуть не среди ночи. Что-то чаял увидеть.
— А статочно… — пробормотал Выспрепар. — Он бы, пожалуй, подтвердил домыслы Световида насчет князя Ухтомского — или же опрокинул вверх тормашками. Кого ж нам отрядить в театр, чтобы завел с ним приятельство?
— Мироброда? Он ведь и так из театра не вылазит.
— Дитя твой Мироброд. Все испортит. Он только сочинять горазд…
— А не испортит. Пусть Световид попросит его сдружиться с тем дансером, а потом и я в компанию войду.
— Резонно… Любопытно, что эта коломенская верста разведала!
Выспрепар, убедившись, что печка разгорелась, встал и оправил шлафрок.
— Я загадку изготовил! — похвалился он.
— Для Туманского?
— Похож ли я на человека, который станет сочинять загадки ради собственного удовольствия?
— Нет. Ты и на человека-то не больно похож…
Выспрепар засмеялся. Он был нехорош собой, причем догадаться, отчего его лицо казалось некрасивым, пока он молчит, было мудрено: все на месте, два глаза разумной величины, нос в меру длинен. Речь была ему противопоказана — губы кривились и диковинно выворачивались наружу. Смотреть неприятно. Начав приглядываться, зритель видел, что в Выспрепаровой физиономии словно бы схватились в смертельном поединке два лица — одно с двойным подбородком, с обвисшими щеками, принадлежавшее немолодому болезненному толстяку, и другое — с глубоко посаженными глазами, заостренным носом, высоким лбом — выше, чем полагается обычному человеку; такие лбы в Санкт-Петербурге — редкость, разве что заедет какой-нибудь тощий и глубокомысленный южный житель из Мадрида или же Лиссабона.
При этом Выспрепару было не более тридцати. И станом он полностью соответствовал образу светского щеголя — в меру полный, с округлым брюшком, с крепкими мускулистыми ногами.
— Я сильф, — сказал он. — Моя красота — нечеловеческая, тебе сего не понять.
Дальновид расхохотался, а Выспрепар взял исписанный листок и принял вид сочинителя, читающего свое творение в гостиных дамам. Он очень старался, но нужно быть великим актером, каким-нибудь парижанином Анри Лекеном, чтобы из вымученных виршей сотворить шедевр.
Была эта загадка такова:
От птицы я свое
Имею бытие,
А ремесло мое
Все делать то, что ум прикажет,
Что сердце скажет.
Мной в жизни множество прославилось людей;
Боится всяк меня, коль я в руках царей
Неправедных и злобных,
И у судей, тиранам сим подобных.
Велика ли я вещь; но многое творю:
Смех, слезы, счастье, смерть;
но днесь живот дарю
И благоденствие лию на миллионы,
Изобразив божественны законы,
Которы царствуют в Екатеринин век,
От коих океан бесценных благ истек.
— Все? — спросил, выслушав, Дальновид.
— Чего же более? Ну?
— Гусиное перо. А загадка и истрепанного пера не стоит. Хотя… дай-ка сюда…
Дальновид взял листок и выбрал из пятнадцати строк две, даже неполные две: «велика ли я вещь; но многое творю: смех, слезы, счастье, смерть…»
— Сие могло бы стать девизом сильфов, — сказал он.
Во всякой театральной уборной непременно стоит топчан. Там могут забыть повесить в углу Николая-угодника, могут пренебречь оконной занавеской, но топчан водворяется в комнату первым и сразу оказывается покрыт какой-нибудь древней овчиной, как будто вместе с ней на свет появился.
Чего он только не повидал за долгую жизнь, как только не служил актерской братии. Забулдыга-фигурант проводил на нем ночь, чтобы не плестись пьяным в мороз домой к Апраксину двору. Закрепив не имеющую запора дверь табуреткой, стремительно и отчаянно ласкали на нем друг дружку хористка и молодой оркестрант. И на нем же протягивал поврежденную ногу дансер, чтобы опытные товарищи могли ее растереть и поправить, замотав накрепко бинтом.
Санька приплелся в уборную первым — это был лучший способ прибрать к рукам топчан на краткий срок между репетицией и представлением.
Костюмеры уже разносили по уборным наряды воинов, рабынь, благородных греков и гречанок, адских духов и фурий.
В этот вечер шел старый балет «Адмет и Альцеста», поставленный лет шесть назад Джузеппе Канциани, которого по обычаю звали на русский лад Осипом Осиповичем, и он откликался. Нельзя сказать, что итальянец освоил русский язык в совершенстве, но он все-таки жил в России с семьдесят восьмого года, хотя, разругавшись в восемьдесят втором году с директором императорских театров Василием Ильичем Бибиковым, сбежал в Венецию. Но в восемьдесят третьем он все же вернулся и был принят в Театральную школу танцевальным учителем и немало добротной русской ругани обрушил на Санькину голову.
В «Адмете и Альцесте» Санька исполнял сперва роль бородатого раба в Адметовом доме, а потом, наскоро переодевшись, одного из шестерки адских духов, увлекающих на тот свет несчастную Альцесту.
Размалевывать рожу и чесать волосы не было необходимости — все равно сверху нахлобучивалась маска, сперва страдальческая, ибо раб оплакивал господина, потом страшная. Это первые дансеры и дансерки перед выходом на сцену завиваются, румянятся, пудрятся, навешивают на себя драгоценности. Вон Глафира не выходит без браслета и перстня, подарков государыни.
Санька натянул на себя штаны и чулки телесного цвета, положенные рабу, такой же корсаж, оставлявший руки голыми, и осторожно прилег, укрывшись темным плащом от костюма. Он собирался подремать хотя бы с полчасика.
Сонливость его вызывала у соседей по уборной всякие шуточки, и чаще всего товарищи изощрялись на тему непомерного роста. Мол, во сне малые дети растут, тебе-то куда? Или же — статочно, во сне иные телесные части в росте прибавляют, не в сем ли причина?
Топчан был коротковат, ноги торчали, ну да Санька привык.
Его разбудил громкий голос:
— Румянцев, сукин сын! Наш выход!
Выкрик этот как-то причудливо совпал со сном, в котором тоже был театр.
— Ну, ну, ну?! — звал пронзительный голос.
Танцевальные туфли ровненько стояли у топчана. Санька сунул в них ноги, спросонья стремительно рванулся вперед — и грохнулся. Туфли же остались на месте. Одному Богу ведомо, как товарищи исхитрились прибить их гвоздями к полу, не произведя при этом стука.