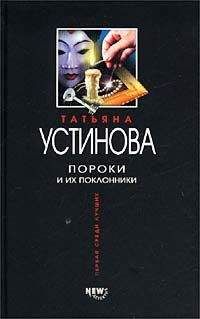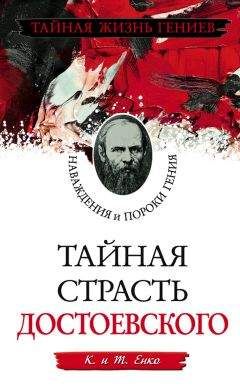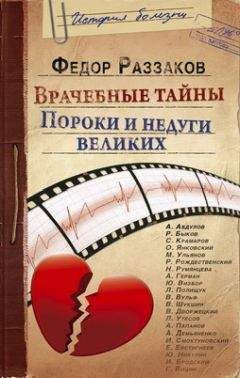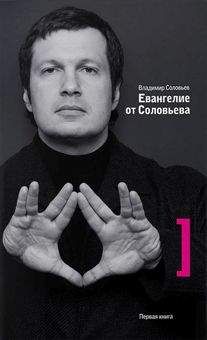Осталось не так уж много – вытащить труп в окно, затолкать в машину и увезти подальше, а потом вернуться, избавиться от ковра с кровавым пятном в середине, сесть и подумать.
– Сначала надо было думать, – сказал себе Архипов, пристраивая труп на подоконник, – теперь думать поздно!
* * *
Он вернулся в свою квартиру, когда уже совсем стемнело. Тинто Брасс вышел в коридор и смотрел с неодобрением, как Архипов стаскивает мокрые насквозь ботинки.
– Если меня повяжут, – сказал ему хозяин, – тебя непременно сдадут на живодерню. Так что не надо иронии.
“Куда ты дел тело, – спросил Тинто Брасс. – И зачем ты принес домой это?” Тут Тинто обошел Архипова и уставился ему в зад.
– Что – это? – не понял Архипов и похлопал себя по задним карманам. В одном из них был пакет, а в пакете – нож. – Я не мог оставить его там. То есть в трупе. Мне нужен этот нож. Я не понимаю, кто и когда и, главное, зачем убил этого типа?! А ты? Понимаешь?
“Не понимаю и понимать не хочу”, – объявил Тинто.
– Ну вот. А я хочу. Зачем он пришел? Когда он пришел? Как он попал в квартиру? Дверь-то опять цела, и замок не сломан! Маша Тюрина его впустила? Почему он пиджак снял? Вчера на улице не было никакой жары! Почему он пиджак снял в гостиной, а барсетку с документами оставил в коридоре?
Тинто ничего этого не знал и демонстративно ушел в спальню – валяться на матрасе “Уют-2000”.
Больше всего на свете Архипову хотелось отмыться от всей сегодняшней возни с трупами и ножами и есть хотелось ужасно – никакие неприятности никогда не выбивали его из колеи настолько, чтобы он терял аппетит, а “покой и сон” он потерял только вчера – когда выяснилось, что Маши Тюриной нет дома. Раньше он тоже никогда не терял ничего такого.
Может, именно потому, что ему очень этого хотелось, ни мыться, ни есть он не стал. Все же он был вожак – сильная личность.
Он стащил с себя мокрую одежду, пошвырял ее за дверь в сторону ванны и в одних трусах, сердито топая, отправился выжимать штангу и качать ногами тяжеленные чугунные диски на металлическом штыре. В наушниках грянул “Deep Purple”. Приноравливаясь к тяжелой работе, Архипов поудобнее устроил ноющую спину на черном кожаном сиденье и взялся за холодные ручки.
Во времена его институтской молодости прыгать с парашютом считалось шикарным и возвышенным занятием. Это была особая каста – те, кто занимался парашютным спортом. Для бега, лыж или баскетбола Архипов был слишком ленив, а вот парашют – десяток прыжков в сезон – оказался самым подходящим. Остальная красота тоже манила – специальные костюмы, очень мужественные, как в кино, яркие рюкзаки, “сборы” с неизменным костром и песнями про “солнышко лесное”.
Неожиданно ему очень понравилось прыгать – даже если бы перестали петь про “солнышко” и носить шикарные комбинезоны, Архипов все равно бы стал прыгать. Бездна покорялась ему – обнимала, принимала в себя, а потом отпускала на свободу, аккуратно и нежно возвращала на землю, до следующего раза.
Тогда он не боялся высоты и не понимал, как высоты можно бояться.
Однажды что-то стряслось с его парашютом – ничего особенного, “рядовой форс-мажор”, как это называли на старте. Вывалившись из “Ан-2”, Архипов понял, что парашют не открывается и нужно ждать, когда откроется запасной, и тут в игру вступила бездна.
“Я не отпущу тебя, – говорила она Архипову, – брось. Все это суета, не смотри туда. Пусть они бегут, пусть машут руками, пусть несется машина, поднимая желтую пыль. Смотри, как много здесь света. Как много места. Как много воздуха. Останься со мной. Для этого всего-то и нужно – потянуть пластмассовую рыжую штуку, заблокировать запасной парашют. Тебе же нравится эта свобода, огромность солнечного пространства, и не имеет никакого значения, что в запасе всего несколько секунд – они того стоят.
Останься со мной”.
Архипов увидел свою собственную руку в перчатке, и остановил ее, и даже прикусил зубами так, что прогрыз перчатку. Еще мгновение – и бездна уговорила бы его. Он заблокировал бы парашют и остался с ней.
Он вырвался в последний момент. И она ему отомстила.
Он приземлился очень неудачно – сильный ушиб позвоночника, отек, неподвижность, страх. Только страх и больше ничего. Он как будто отупел от страха перед неподвижностью – не мог думать, не мог спать, не мог есть. На вопросы не мог отвечать – только лежал и изо всех сил боялся, каждый день боялся приведения приговора в исполнение, а оно все откладывалось и откладывалось на неопределенный срок.
Однажды ночью он проснулся – даже не проснулся, а пришел в себя от того, что по привычке подтянул ногу, изнемогшую в одном и том же положении, и нога вдруг послушалась его. Он смотрел на нее, на свою согнутую в колене ногу – чудо из чудес, а потом так закричал, что перепугал все отделение.
“Больше никаких травм, – заявил, осматривая его, врач из ЦИТО, – никаких неправильных нагрузок. Спать только на жестком. Раз в полгода к нам. Массажи. Ванны. Постоянные упражнения. Ясно вам, юноша?”
Юноше все было ясно.
Он слишком отчетливо помнил свой страх.
Вот эта постель, вот эти стены, “утка” между металлическими крашеными ногами кровати, стакан, а в стакане ложка – все, что у меня есть, и все, что у меня будет.
Память о страхе заставляла его изо дня в день потеть на тренажерах, выполняя специальный комплекс, придуманный тем же врачом.
Он всегда пристегивался в машине, даже если ехал через улицу в ларек за пивом. Даже с бортика бассейна он больше ни разу не прыгнул, потому что помнил тот свой страх и боялся, что он повторится.
Он привык к почти постоянной боли в спине и к тому, что спина может в любую минуту “подвести” и ее еще надо уговаривать и поглаживать, чтоб “не подвела”.
Как это он сегодня стащил труп по лестнице, вытащил в окно да еще усадил в машину?!
“Deep Purple” в наушниках все гремел, и диски падали на мат, сотрясая стены. Архипов старался не спрашивать себя, что во время его упражнений делают соседи. Впрочем, прямо под ним размещались супруги Державные, Елена Тихоновна и Гуня, люди во всех отношениях интеллигентные и уважительные.
Пот заливал глаза, трусы насквозь промокли. Позвоночник: просил пощады, но Архипов знал, что пощады ему не даст.
Гадость сегодняшнего дня растаяла под градом горячего трудного пота, и воспоминания о том, как на шею ему упала холодная и тяжелая рука, и о том, как Маша Тюрина говорила в телефон бойким, уверенным, ненатуральным голосом, больше, не мучили его.
Подошел Тинто Брасс, потыкался носом в ухо, в пластмассовый кружок, внутри которого гремел “Deep Purple”.
– Уйди! – приказал Архипов, не слыша себя. – Сейчас штангу на лапу уроню!