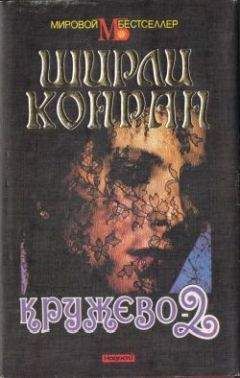— Она не выплывет. У нее нет таланта. Та премия была просто случайностью. Она может добиться чего-нибудь, только работая на спине. Да и в этом она не слишком сильна.
Впервые в жизни Плам была предоставлена самой себе, никто не требовал ее заботы, никто не указывал, что ей делать. В тот день, когда она вернулась из Портсмута без сыновей, она, не заходя домой, отправилась в Национальную галерею и несколько часов провела там, испытывая необыкновенный подъем от ощущения свободы и эстетического наслаждения. Это опьянение не покидало ее до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. Уже в постели она почувствовала какое-то смутное беспокойство, которое медленно нарастало в ней и превратилось в самый настоящий страх. Она была теперь свободна и могла иметь то, что хотела. Но сейчас единственное, чего она хотела, чтобы рядом были ее дети. На нее навалилась тоска одиночества.
Не выдержав, она встала, оделась и дошла до паба в конце улицы, где был телефон-автомат.
Услышав голос Дженни, она немного успокоилась.
— Плам, никого еще не миновало чувство одиночества… Прошла неделя, и Плам поняла, что это не что иное, как плата за свободу, ее оборотная сторона. И, как многие, она научилась избавляться от смущения отчужденности, погружавшего ее во тьму. Обычно хватало телефонного разговора с Лулу, которая во всем видела необычайное приключение, или звонка Дженни, которая терпеливо успокаивала ее и говорила, что чувство одиночества — это необходимое условие перехода к новому образу жизни и оно скоро пройдет.
— Без этого не бывает. И не верь тому, что пишут в журналах для женщин, — твердила ей Дженни. — Твоя нынешняя свобода — это единственный шанс заработать на жизнь живописью, так что не упускай его, Плам. — Затем Дженни напоминала ей., что скоро уик-энд и она увидит своих детей. И вообще она скоро оценит, что такое мир и покой. — И потом, Плам, ты сама говорила, что таков уж удел всех матерей.
Дженни и сама переживала тяжелые времена. Ей перестали выплачивать стипендию, сославшись на уровень доходов отца, и она была вынуждена уйти с последнего курса училища Слейда. Приходилось работать: днем — официанткой в пабе, вечерами — в супермаркете, она была готова на все, лишь бы остаться в Лондоне.
В январе 77-го, еще не насытившись свободой, Плам получила приглашение ассистировать одному посредственному художнику средних лет, от которого постоянно разило пивом. Ее представили Биллу Хоббсу на презентации, куда ее затащила Лулу. Плам полагала, что эта работа поможет ей компенсировать недостаток академического образования, но она ошиблась. После трех зимних месяцев изнурительной и крайне скучной поденщины в холодном и сыром подвале она с облегчением восприняла свое неожиданное увольнение.
Потом случались разные временные работы: она была официанткой, посудомойкой, обходила дома с опросными листами, наталкиваясь на недовольство людей, которые удобно устроились у телевизора как раз перед тем, как ей позвонить к ним в дверь. Дни она посвящала живописи и, поскольку начинала с рассветом, постоянно недосыпала.
Сон одолевал ее в самых неподходящих местах. В автобусах она неизменно пропускала свою остановку, пробуждаясь на конечной.
На протяжении двух лет жизнь Плам была небогата событиями: заботы о хлебе насущном, занятия живописью и дети по уик-эндам. У нее почти не оставалось свободного времени и сил, хотя иногда она посещала бурные студенческие вечеринки и даже слегка флиртовала. Но в общем все ее выходы «в люди» заключались лишь в посещении прачечной или местного супермаркета, где ее тележка почему-то никогда не налетала на высокого темноволосого незнакомца, который был свободен, любил готовить и обожал чужих детей.
В этот период Лулу, жившая на небольшие деньги, которые присылали ей родители, стала у подруг авторитетом в области секса.
— Ты очень неразборчива, — сказала, зевая, Плам в один из воскресных вечеров в своей мастерской после того, как они с Дженни выслушали откровения подруги о том, что все еще находятся такие, которым приходится рисовать схему и говорить: «Здесь находится клитор».
— Я серьезно исследую секс, — утверждала Лулу, рассказывая об очередном своем похождении, — и больше никогда в жизни не сделаю ставку на одного-единственного мужчину. — Она все еще не могла забыть Мо.
— Почему женщина не может быть счастлива без мужчины? — спросила Дженни, наливая в стаканы дешевое алжирское вино. — Почему мужчины вполне могут обходиться без женщин, а мы нет?
— Потому что женщины слишком многого ждут от жизни и слишком мало ценят себя, — объяснила Лулу. — И это роковое сочетание не позволяет нам довольствоваться собой.
В октябре 78-го Дженни выставила шесть своих работ в галерее «Авант-Авант» на Фулем-роуд.
По прошествии недели ни один из ее зеленоватых натюрмортов, желтовато-бледных и мрачных портретов и блеклых пейзажей так и не был продан. Джим, приехавший на выставку с группой поддержки из Хэмпширского художественного колледжа, успокаивал ее, по-отечески обнимая за плечи.
— Не расстраивайся. Такова уж наша доля. Все лучшие художники бедствуют из-за того, что критики не могут оценить их талант. Мы все знаем это! Помнишь, Брэндан Бихан говорил, что критик — как евнух в гареме: ему хочется сделать это; он знает, как сделать это, видит, как все вокруг делают это, — но сам не может этого сделать.
Плам вспомнила его слова через месяц, когда в третьестепенной галерее «Шустринг» заботами Лулу были выставлены восемь ее картин. В длинном облегающем платье из бархата цвета спелой сливы, она выглядела вполне уверенно, но в душе трепетала — ее работы выставлялись на суд зрителя. Двухлетний срок, на который она «сдала» детей матери, истекал в конце следующего месяца, и она пребывала в таком же отчаянии, как Золушка, когда часы начали бить полночь.
В длинных и низких залах галереи пахло опилками и дешевым белым вином. Оформление не отличалось изысканностью: полы были покрыты черной плиткой, стены и потолки выкрашены матово-черной краской; лампы-подсветки, направленные на картины, тоже были черными. Лулу включила в список гостей целую вереницу важных персон. Плам никого из них не знала и, по правде говоря, не надеялась увидеть на своей выставке. Но Лулу заявила, что цыплят по осени считают.
— Здесь ничего не видно, — жаловалась она, вглядываясь в полумрак. — Надо было захватить с собой фонарик. — Вдруг она открыла рот от изумления и схватила Плам за руку. — Посмотри! Вон там! У твоей большой картины! Белокурый самец!
— Класс, — согласилась Плам. — Кто он?
— Бриз Рассел! Владелец галереи на Корк-стрит! Я включила его в список приглашенных. Я же говорила, цыплят по осени считают. А это что за мисс Кот вьется вокруг него?