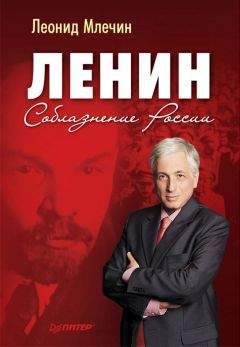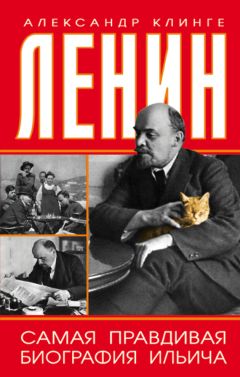Возможно, позже, он и сказал бы матери спасибо за такое спартанское воспитание, если бы не следующее. Римма Васильевна целенаправленно и с младых ногтей лишала сына собственной воли. Она решала за него все сама, вплоть до того, синий или красный кубик поставить на вершину только что построенной пирамиды. Его собственное мнение ее не интересовало, поскольку «мать всегда знает, что для ее ребенка лучше». Она давила на Дмитрия, жала из него масло и полностью подчинила себе. В его душе постепенно пускало корни сначала какое-то непонятное томление, похожее на физическое недомогание, а потом раздражение и злоба. Дмитрий не мог сделать шагу, чтобы не поставить мать в известность и не обсудить с ней преимущества того или иного мероприятия. Если мать считала, что сыну не стоит идти на день рождения, куда его пригласили, то ослушаться ее он не смел. Он не смел закрываться в ванной, когда мылся, потому что мать непременно являлась туда, чтобы потереть ему спину. Ему было уже тринадцать, он жутко стеснялся начавших курчавиться на лобке волос, но мать это нисколько не волновало. Потерев ему спину, она бесцеремонно разворачивала его лицом к себе и продолжала намывать его, как малолетнего. Раздражение и злость постепенно перерастали в глухую ненависть к матери, которую он не смел ей продемонстрировать и вынужден был таить в глубинах души. Воля Риммы Васильевны парализовывала Дмитрия. Мать всегда могла переговорить сына и настоять на своем. На его доводы ее доводов было всегда гораздо больше. Она безапелляционно высказывала их громким уверенным голосом, и под его раскатами Дмитрий каждый раз убеждался, что не прав, хотя еще минуту назад был полностью уверен в своей правоте. Он не мог противиться матери, ему оставалось только тихо ненавидеть ее и скрывать от нее то, что удавалось скрыть, живя под колпаком.
Ненависть к матери достигла апогея, когда Римма Васильевна впервые учуяла исходящий от сына запах никотина. Она выдрала его откуда-то взявшимся солдатским ремнем так жестоко, что он пару дней не мог ходить в школу. Он так плохо себя чувствовал после этой порки, что курить больше не пробовал и даже сейчас, уже будучи взрослым, не курил. Конечно, это было хорошо для здоровья, но любви к матери не прибавило.
Помимо жесткого контроля за жизненными процессами сыновнего организма, Римма Васильевна осуществляла тотальный контроль и за его душевным здоровьем. Она, когда могла, сидела рядом с Димой у телевизора и мгновенно выключала его, если на экране кто-то целовался или употреблял неподобающие случаю выражения. Она просматривала все книги, принесенные сыном из библиотеки, перед тем как Дмитрий принимался их читать, кое-какие отбраковывала и даже ходила разбираться в библиотеку на предмет выдачи несовершеннолетним развращающих книг. Одной из таких книг стали «Сказки Древнего Египта». Римма Васильевна прочитала в одной из сказок выражение «он познал ее» и стала допытываться, что Дмитрий на сей счет думает. Если бы мать не спросила, он вообще ничего не подумал бы. Вернее, он решил бы, что один мужчина узнал женщину, которую, возможно, давно не видел. Поскольку мать привязалась к этой невинной, с его точки зрения, фразе, Дмитрий на следующий же день решил выяснить, какой скрытый смысл она может иметь еще, все у того же Гены Пеночкина, который теперь учился с ним в одном классе и по-прежнему являлся грозой и бедствием всего их коллектива. Пеночкин снисходительно усмехнулся, по-отечески потрепал Дмитрия по плечу и в цветистых выражениях поведал все, что знает по данному вопросу, и даже кое-что показал на тут же собственноручно сделанных рисунках и чертежах. Дмитрий был потрясен собственным невежеством и решил во что бы то ни стало прочитать «Сказки Древнего Египта» от корки до корки в читальном зале. Как решил, так и сделал, и нашел там много для себя интересного и поучительного. После египетских сказок последовали сказки Шахерезады, а потом – обернутая в газету «Советский спорт» – брошюра под страшным названием «Беременность. Норма и патологии», которую ему под большим секретом, как человеку интересующемуся, дал почитать Пеночкин. Дмитрий убедился, что в своих рисунках и чертежах Гена был очень близок к истине, и очень огорчился. Все окружающие его женщины, включая классную руководительницу Раису Павловну и самую красивую девочку их класса Олечку Яковлеву, стали ему противны, поскольку теперь он точно знал, что под их платьем находится нечто отвратительное, такое же мерзостное, как Генин чертеж и рисунок из брошюры «Беременность. Норма и патологии». Это отвращение он перенес на мать. Скорее всего, под ее платьем ничего такого не было, кроме натянутой на стальной каркас веснушчатой кожи, но своим идиотским вопросом, что он думает о фразе из египетских сказок, она заставила его провести собственное расследование и узнать то, что знать совершенно не хотелось. Дмитрия передергивало от голоса Риммы Васильевны, он ненавидел ее большое лицо с мясистым носом и тонкими губами, с отвращением смотрел в так любимые ею глубокие вырезы платьев, где на пятнистой рябой коже неизменно возлежали крупные янтарные бусы. Конечно же, у нее не было, да и не могло быть, двух грудей с топорщащимися сосками, которые он видел в брошюре про беременность. Бусы покоились всего лишь на утесообразном уступе ее крупного тела, ничего общего не имеющего с женскими штуками, созданными для кормления младенцев. Дмитрий не сомневался, что он сын Риммы Васильевны, но подозревал, что произошел от нее совершенно другим способом, может быть, даже почкованием, как маленький гидреныш от гидры, парочка которых была красочно изображена в школьном учебнике, или, может быть, каким-нибудь особым делением. При всем при этом он стойко держал на лице выражение любящего послушного сына.
Года через полтора, когда он учился в седьмом классе, отвращение к женщинам постепенно прошло. Он уже совершенно под другим углом зрения перечитал брошюру про беременность и еще кое-какие литературные экзерсисы на подобную тему, которые где-то умел доставать Пеночкин. Дмитрий заново влюбился все в ту же Олечку Яковлеву. Однажды вечером перед сном он написал ей письмо о своей любви, временно положил его в учебник по геометрии и лег спать. Полпервого ночи мать подняла его с постели диким криком: «Дмитрий! Что это за гадость?!» Она трясла перед ним его собственным письмом к Олечке и испускала из глаз молнии.
– Где ты это взяла? – побелевшими губами в ужасе прошептал Дмитрий.
– Куда положил, там и взяла! – продолжала кричать Римма Васильевна.
– Ты… Ты без моего разрешения роешься в моих вещах? – очень тихо спросил Дмитрий. Он догадывался об этом и раньше, но в его карманах и портфеле до сих пор не водилось ничего предосудительного (ему даже в голову не приходило приносить брошюру про беременность в квартиру Риммы Васильевны).