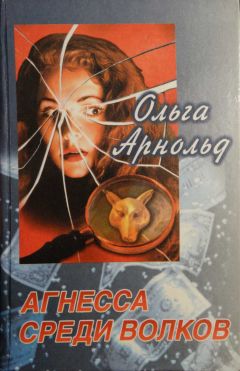Тут я удивилась. Конечно, меня поразили не его слова насчет хозяйки в доме, просто я не могла припомнить, чтобы Аркаша когда-нибудь увлекался искусством. Может быть, это сейчас модно среди новых русских? Но его слова навели меня на одну мысль, и я произнесла:
— Кстати, сейчас в новой Третьяковке выставка Сальвадора Дали. Пойдем?
— Конечно, если ты хочешь!
Мне удалось перевести разговор на живопись, и тут Аркадий оживился. Он сказал, что я ему напоминаю ренуаровских женщин. Мне стало совсем смешно, я рассмеялась, а он захохотал в ответ. Я вообще смешлива и к тому же смеюсь очень заразительно. Иногда во время переговоров, когда партнер ляпает с чрезвычайно серьезным и умным видом очередную глупость, мне трудно сдержать себя и не рассмеяться. Во всяком случае, остаток обеда прошел более оживленно, и, расплатившись с официантом, мы отправились на Крымскую набережную.
Билетов, как всегда бывает в таких случаях, не было, а очередь людей с билетами, как всегда, была часа на три. Я заставила Аркашу купить билеты у перекупщиков за двойную цену и, вспомнив студенческую юность, отправилась к служебному входу. Там стоял симпатичный молоденький милиционер в новой форме. Я состроила ему глазки, улыбнулась, вытащила из сумочки какое-то старое удостоверение, помахала им перед его носом, заявила, что я представитель прессы, и паренек не смог устоять. Аркашу я протащила с собой как фотокорреспондента. Мальчишка-милиционер (мне даже не хочется называть его ментом) остался стоять с раскрытым ртом — у фотокорреспондента не было с собой аппаратуры, да и на выставках такого рода фотографировать запрещено. Впрочем, чем абсурднее, тем убедительнее.
В деловых, строгих костюмах мы с Аркадием выглядели неуместно среди разношерстной публики, одетой по-богемному красочно или по-интеллигентски небрежно. Впрочем, Аркадий этого просто не заметил, а я сразу же позабыла. Выставка меня захватила. Я вообще люблю атмосферу музейных залов, вернисажей. Но тут было другое. Дали для меня значит больше, чем просто гениальный сюрреалист. Испанская речь, которая звучала в зале, рисунки и картины на стенах вызвали у меня острым приступ ностальгии. Дело в том, что мой бывший муж Марк был «испанцем» — он учился в нашем институте на романском отделении. Я давно о нем ничего не слышала, знала только, что он много мотался по Латинской Америке, а несколько лет назад уехал в Испанию. Его гордостью был роскошный альбом Сальвадора Дали, который он когда-то за бешеную цену достал у спекулянтов. Когда я с ним рассталась, мне пришлось распрощаться и с этим альбомом.
Я сделала по залам три полных крута, таща за собой уставшего и слегка обалдевшего Аркадия. Наконец он нерешительно потянул меня за руку и направился к выходу, и я молча последовала за ним. Я еще была под впечатлением от увиденного, и мне не хотелось говорить. Он тоже молчал. На улице начинался дождь, Аркадий вытащил из дипломата зонт и раскрыл его.
— Куда теперь, Аркадий? — спросила я ласковым тоном.
Мне почему-то не хотелось возвращаться домой, в пустую квартиру, и ждать, придет или не придет Петя. Я не хотела расставаться сейчас с Аркадием — он как бы вписался в атмосферу Дали. К тому же что такое наши отношения, как не сплошной сюр? Пятнадцать лет ухаживать за женщиной, за все пятнадцать лет получить от нее только несколько поцелуев и при этом упорно желать на ней жениться — на это способен либо романтик, либо импотент, либо глупец. Мне хотелось думать, что Аркадий — романтик.
По лицу Аркадия было видно, что он колеблется. Наконец он медленно произнес:
— Вообще-то я хотел повидать свою тетушку. Я договорился с ней, что заеду сегодня вечером. Уже седьмой час…
Тетушка Аркадия — вернее, сестра его бабушки — Анна Сергеевна давно овдовела и жила одна в роскошной трехкомнатной квартире на Ленинском, оставленной ей покойным мужем-академиком. Как-то раз несколько лет назад мы с Аркадием к ней заходили, и она очень мне понравилась. Родом из старинной дворянской семьи, прошедшей через испытания лагерями и ссылками, она не склонилась и даже в старости сохранила царственную осанку. К тому же она говорила на изумительно правильном и чистом русском языке — меня, нередко делающую элементарные ошибки в ударениях, всегда это восхищало.
— Пойдем к ней вместе!
Он замялся, как будто хотел отказать, но было видно, что ему неудобно сказать «нет» мне, которой он только что в завуалированной форме сделал очередное предложение, и нехотя ответил:
— Хорошо, пойдем!
— А она не больна ли, часом?
— Нет, она на ногах, но сердце у нее плохое, стенокардия. Мы за нее беспокоимся. Врачи говорят, что положение серьезное. Впрочем, ей ведь уже семьдесят шесть.
Разговаривая, мы дошли до Ленинского, сели на троллейбус и через двадцать минут были на месте. Зашли в булочную в том же доме, где жила Анна Сергеевна, купили кое-какие гостинцы и поднялись на третий этаж. Дверь нам открыла сама старушка: на ней был невообразимый наряд из потерявшего от ветхости всяким вид коричневого шелка, на морщинистой сухой шее висела нитка крупных янтарных бус. За то время, что я ее не видела, она сморщилась и пожелтела, и даже спина ее не казалась больше прямой. Самое поразительное, что она меня тут же узнала, хотя видела только раз. Видно, я произвела на нее тогда сильное впечатление.
— Агнесса, вы ли это, детка? Проходите, проходите! — И она отступила, пропуская нас в мрачную, заваленную ненужными вещами огромную прихожую. Мы разделись и прошли не на кухню, как это принято в современных домах, а в захламленную, темную гостиную; недалеко от двери, наполовину загораживая проход, стояло древнее пианино, о которое я чуть не споткнулась. Хозяйка усадила нас за антикварный круглый столик с витыми ножками: стулья были настолько старинными, что я боялась, как бы они под нами не рассыпались. Все в этом доме дышало затхлостью, заплесневелостью; впрочем, подобный запах часто бывает в квартирах старых людей, какими бы чистюлями они ни были. Может, так пахнет старость?
Анна Сергеевна между тем суетилась, накрывая на стол: она расстелила пожелтевшую и кое-где продранную ажурную скатерть, вытащила чашки тончайшего китайского фарфора, старинный чайничек явно из дрезденского сервиза, сахарницу, отделанную почерневшим серебром; и серебряные щипчики для сахара. Интересно, неужели есть еще дома в Москве, где подают щипчики для сахара?
После этого она направилась на кухню; я поднялась, чтобы ей помочь, но она заставила меня сесть на место:
— Нет, молодые люди, сидите и отдыхайте. — И при этом окинула любимого племянника таким взором, что мне стало ясно: он для нее свет в окошке.