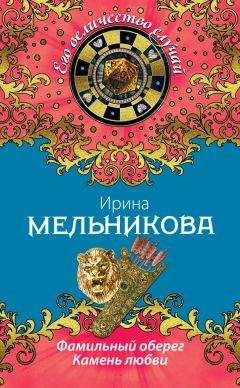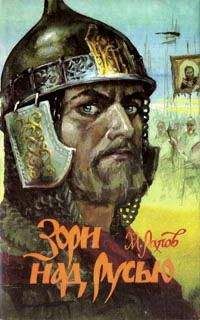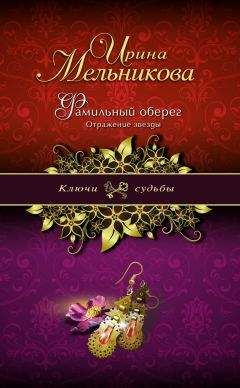Мирон Бекешев стоял на речном обрыве и наблюдал за бурлившей на причале жизнью. С торговых судов, что, минуя грозные пороги, прибыли с севера, выгружали товары. Босоногие, в грязном рванье отметчики и бродяги, нанятые купцами, сгибаясь под тяжестью мешков и тюков, бежали по шатким сходням, выкатывали бочки, выводили скот и лошадей.
За спиной князя возвышались стены Абасугского острога. Пять лет минуло с тех пор, как закончилось его строительство. И жизнь в нем кипела не хуже и не лучше, чем в других сибирских городках.
За бревенчатым частоколом, приноравливаясь к лютым морозам и палящей жаре, по мере сил обустраивались и жили служилые «по отечеству» — дети боярские.
Жили, справляя казенную повинность — заготавливали лес и гоняли его плотами в Краснокаменск, строили дощаники и сплавляли хлеб в Енисейск на ярмарки, — воротники и пушкари, затинщики и стрельцы, рейтары и драгуны, толмачи и крещеные татары, не забывая при этом о ратной службе. Кто-то из служивых по своей воле в Сибирь пришел, кто-то по «указу», а кого-то «по прибору» силком пригнали.
Жили и кормились от людской щедрости и неграмотности подьячие и писцы, а от жадности и глупости — мытари, целовальники и шинкари.
Жили прежде разбойные людишки — убойники, тати да конокрады, — с ноздрями рваными да пороховыми клеймами. Доживали свой век в темницах монахи покаянные и прочие лишеники.
Жили осужденики — литва, ляхи да прочая неметчина. Одних за смуту и речи крамольные сослали, других во время войн пленили.
Жили казаки белопоместные, свободные от посадского и крестьянского тягла. Несли службу суровую на сторожевых постах в черневой тайге да по горным перевалам.
Казаки же неверстанные, что пришли на царскую службу еще до начала смутных времен, в Сибири чести своей и усердия не теряли. И с тем же рвением, как когда-то вредили туркам и крымским татарам, стояли на форпостах и заимках, на мунгальских сакмах и перелазах, не позволяя иной птице перелететь, юркой мыши пересечь дальние рубежи российской державы. Спокойнее стало в сибирских землях, но осторожность никогда не мешала.
Жили себе не в убыток купцы хлебные, рыбные, соляные и всякие иные. Строили лабазы и амбары, возводили пятистенные избы на подклетях, открывали лавки суконные, бакалейные, мясные. Вскоре и купище на посаде зашумело, замельтешило, засуетилось, огласилось звонкими криками зазывал и воплями торговцев.
Росли вкруг острога слободы ямщицкие, оружейные, ремесленные, мастерового и торгового люда, обрастал посад крепкими избами, а на окраинах лепились хибары бугровщиков, лесомык и бродников, чья жизнь — перекатиполе.
Жил, пропивая последнюю тряпку, заживо гнил от скорбута [32]и дурных болезней всякий гулевой народ — бобыли, бездомки, отметчики.
Жили насельники в недавно отстроенном монастыре. Молили о спасении души — своей и всякого, кто осенял лоб крестом.
Жили, скрываясь от властей по таежным дебрям и проклиная царя-антихриста, блюстители старой веры — раскольники. Там в глухих деревнях мужики бороды не брили, желто-красные лоскутья — козыри — на зипунах не на́шивали; бабы прятали волосы под платками, опашни [33]не признавали и про рогатые шапки не ведали [34].
Жили казенные крестьяне с семьями в своих дворах. Пахали землю, сеяли рожь, овес, пшеницу, а приходило время — жали серпами, молотили цепами, засыпали зерно в амбары или везли на мельницы, где мешки наполнялись мукой нового урожая. А после витал над поселениями запах свежеиспеченного хлеба…
Жили инородцы в окрестных становищах, а с весны по осень кочевали на пастбища, на горные луга, покрытые сочной пахучей травой. Кормили окрестных духов, угождали им и благодарили, если те не причиняли зла, поклонялись своим богам, но кое-кто уже осенял себя крестом перед иконами.
Жили богобоязно и греховно, по поговорке «Бог высоко, царь далеко!». Воеводы и приказчики государеву службу несли, но и себя не забывали, попы в храмах за всех молились, а мужики спины гнули на пашнях и плотбищах, гоньбе ямщицкой да на соляных промыслах…
Жили тяжко, но весело. Зимой людишки посадские стенка на стенку хаживали, так что ребра трещали, носы в кровь разбивали. Бабы с ледяных горок катались, блины пекли, куделю пряли, детей в муках рожали… А по праздникам шла по кругу винная чара и летала над бескрайними снежными просторами разудалая песня…
Без малого три года прошло, как князь Бекешев указом Петра поставлен был управлять Краснокаменском. Как величайшую драгоценность хранил Мирон письмо царя, где каждое слово помнил наизусть . «Не кланяйся, братец, я тебе от Бога приставник, а должность моя — смотреть того, чтоб недостойному места не дать, а у достойного не отнять, — писал Петр. — Коли буде хорош — то не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худ — так я тебе истец. Ибо Бог от меня за всех вас требует, чтобы злому и глупому не дать вред делать. Служи верой и правдой. Бог, а по нему и я не оставим тебя…»
А еще государь строго-настрого наказывал: «Прямою своею службою и раденьем в Краснокаменском остроге, во всяком сборе, учинити перед прежним окладом прибыль, а не убыль, и во всем Государевы дела делати вправду, и к служилым и к ясашным людем призор и строенье держати с великим раденьем, не оплошно, безо всякой корысти…»
Вот Мирон Бекешев и служил по мере сил, не корысти ради и не жалея живота своего.
Краснокаменский городок хотя и числился за Тобольской губернией, но еще в 1676 году Сибирский приказ закрепил за ним все земли по Енисею и правобережью вплоть до Забайкалья, так что хлопот по сбору ясака с тамошних народцев, увеличению государевой пашни и борьбе с недородами, обустройству и охране новых земель, поездок для знакомства с огромной территорией и бытом ее насельников — русских и туземцев — прибавилось неимоверно. Пытался новый воевода бороться и с мздоимством, и с разбоями на сибирских дорогах, и с нечистыми на руку приказчиками, мытарями и целовальниками, с ушлыми корчмарями и прочими контрабандистами, что тоже отнимало немало сил. Но все его старания искоренить зло пока были тщетны, зато появилось много недоброжелателей, как тайных, так и явных.
Тяжелая воеводская служба, непривычные на первых порах заботы изматывали до изнеможения и помогали отбросить печальные мысли в дневное время. Но по ночам Айдына приходила к нему во снах — мучительных, беспокойных. Мирон метался, точно в бреду, кричал, часто просыпался, подолгу сидел на постели и, уставившись в темноту, мычал тоскливо от бессилия, от невозможности что-либо изменить. Но чаще ругался, да так, что вскакивал Никишка, спавший подле порога, и тревожно прислушивался к тому, что происходило за воеводскими дверями. Черкас [35]был единственным человеком, который знал, что за тоска точит Мирона, отчего он сам не свой поутру. В плохом расположении духа князь мог и в ухо дать за провинность и недогляд, поэтому Никишка из кожи вон лез, чтобы привести его в хорошее расположение духа.