— Спокойно… — шептала она себе под нос. — Не торопись…
Онемевшим до бесчувствия пальцем Эрин надавила на кнопку, заставляя часы замолчать. Однако она понимала, что уже слишком поздно. Внимание безнадежно рассеивалось между тем, что она видела в видоискатель, и мыслями о Джеймсе Розене, эсквайре. И эти мысли нельзя было отключить нажатием кнопки. СРОЧНО ВОЗВРАЩАЙСЯ
Эрин постаралась не думать о телеграмме. Семь лет она плевала на цивилизацию с высокой колокольни. И еще лет семь отлично бы обошлась без людей.
Собственно говоря; она вообще не вспоминала бы об остальном мире, но увы: ее пребывание в Арктике подходило к концу. Эрин понимала это. Хотя на Севере оставалось еще много такого, чего она не успела запечатлеть на фотопленке, однако для ее собственных нужд материала было более чем достаточно. Побуждения, которые привели ее в эту страну дикой природы, за семь лет развеялись. Да и сама она уже не была той, какой прибыла сюда семь лет назад. Ответы на вопросы, которые прежде мучили Эрин, совершенно не удовлетворяли ее.
«Джеффри будет в восторге», — подумала она, надеясь, что эта мысль согреет и ее сердце: Джеффри Фишер, нью-йоркский редактор, решительно не понимал, какого черта она отправилась в это захолустье, в стужу и дикость. Не мог понять он и непоседливости, которая гнала ее с места на место, заводя подчас в совершенно безлюдные места. Джеффри очень нравилось ее искусство фотографа, ее взгляд художника, но он все время пытался склонить ее к, как он выражался, «цивилизованным» съемкам: английские фермы, французские виноградники, античные греческие статуи и современные курорты Средиземноморья.
Поначалу Эрин пыталась объяснить Фишеру, почему ей не нужны командировки в Европу. Она старалась доказать ему, что цивилизация, устранив крайние нагрузки на человеческий организм, вместе с тем сделала человека и психически более неустойчивым. Фишер решительно был не в состоянии понять это. Она предпочитала снимать суровую природу побережья Тихого океана, особенно в его северной части. Именно там она встречала следы древних культур, которые были так далеки от Манхэттена и в то же время достаточно доступны и утонченны, чтобы Фишер мог врубиться. Восточное побережье — это Атлантика, здесь чувствуется влияние европейской культуры и богатое прошлое. Западное же — это почти не тронутые цивилизацией просторы Тихого океана. Там все устремлено в будущее.
К сожалению, Эрин исчерпала все предлоги, чтобы объяснить свое нежелание работать в Европе, снимать сельские домики, виноградники, винные подвалы и литое серебро при свете мерцающих свечей. Она так составила свое расписание, чтобы, уехав на несколько месяцев или даже на год, избежать чьего бы то ни было назойливого присутствия. Она умела делать все, но без всякого энтузиазма снимала мирные европейские красоты. Ведь на свете столько интересного, куда более интересного, что бы она могла запечатлеть с помощью фотокамеры.
Ей уже доводилось много раз бывать в Европе, и каждый приезд туда вызывал тоску, а не радость от новых впечатлений. Отчасти, должно быть, потому что прежний жених Эрин был европеец. По крайней мере так он утверждал. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ТОЧКА
Отчасти же потому, что Европа для нее ассоциировалась с работой отца, дипломатией, секретами и предательством, после которого в душах людей остаются непреходящие раны, незаживающие рубцы, даже если люди достаются в живых. Если, конечно, это можно вообще назвать жизнью. ПОДРОБНОСТИ ПОТОМ ТОЧКА
Подробности, увы, это не правда. Человек и цивилизацию придумал лишь затем, чтобы заслониться ею от настоящей правды жизни. Как и время он придумал для того, чтобы проще было справиться с человеческой ложью. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Эрин стояла неподвижно. Глаза слепил алмазно-серебристый свет. Ничто не нарушало первозданную тишину. Казалось, сама вечность царила вокруг в этом мерцающем свете, и ей было решительно наплевать на все придуманные человеком благоглупости вроде, например, правды, лжи, жизни, смерти, справедливости, несправедливости. СРОЧНО ВОЗВРАЩАЙСЯ
В настоящей жизни нет справедливости или же несправедливости. В крайнем случае речь может идти о чем-то, оказавшемся неожиданным для конкретного человека. Порой жизнь может удивить с приятной стороны. Так не раз бывало в Арктике. Иногда же — преподнести чудовищно жестокие сюрпризы вроде Ганса. Но любая неожиданность — это суровая правда жизни, с которой каждый, кто любит жизнь, должен смириться.
В очередной раз заткнув глотку своим часам, Эрин принялась собирать вещи, чтобы отметить этим начало своего возвращения в Лос-Анджелес.
Сколько времени тому назад погибли эти двое бандитов-китайцев?
Голос, несколько искаженный космической связью, звучал отчетливо, и Джейсон Стрит уловил в нем типично итонские пренебрежительные нотки. Гуго ван Луйк был крепко сбитым голландцем с копной седых волос на голове. Его манера выговаривать слова резала австралийское ухо. Стрит сделал изрядный глоток, поставил огромную пивную кружку на стол и лишь затем произнес в трубку:
— Часов двенадцать, а может, и больше.
— И ты столько времени молчал об этом?
— А ты бы хотел, чтобы я по обычному телефону рассказывал о подобных вещах? — парировал Стрит. — Запомни, тут Австралия. Любой, купивший телефонную трубку, может подслушивать разговоры, особенно по радиотелефону. Я все закопал, все перерыл вверх дном в доме у Эйба, вернулся в Перт и вот звоню.
На расстоянии десяти тысяч миль от Австралии, на шестом этаже серого невзрачного здания, расположенного на Пеликанстраат, главной улице квартала алмазных дельцов в Антверпене, Гуго ван Луйк прикрыл глаза, пытаясь хоть немного унять головную боль. В своем офисе он был один и потому позволил себе раскинуться, почти полулежать в кресле. У него было сейчас такое чувство, словно ему в самое нутро всадили гигантский рыболовный крючок. Тошнота временами подступала к горлу. Он часто и глубоко дышал, чтобы справиться с отвратительным ощущением. Ван Луйк был здоровым, сильным физически человеком, крепким профессионалом. Однако за все приходилось расплачиваться, и с годами цена росла.
— Ладно, — сказал ван Луйк. — Значит, гологра-фическое завещание, бархатный мешочек и жестяная коробочка — все это испарилось к моменту твоего приезда. Десять лет труда пошли прахом.
— К сожалению, это именно так. Не сдерживай вы меня, я прижал бы Эйба Уиндзора, и он бы все мне рассказал как миленький. Не стал бы запираться, сделай я то, что предлагал.
— Все может быть. Хотя скорее всего в его годы и при его здоровье старик бы не выдержал истязаний. и умер, а все его тайны прямиком перешли бы по наследству. Тогда мне казалось, что рисковать чрезвычайно опасно.

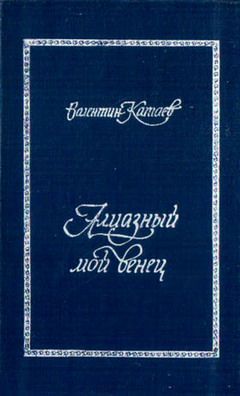

![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)

