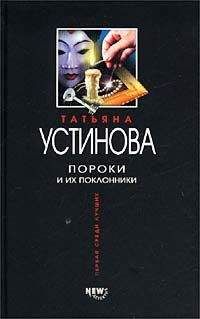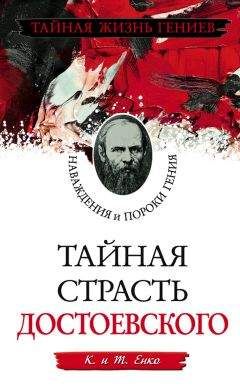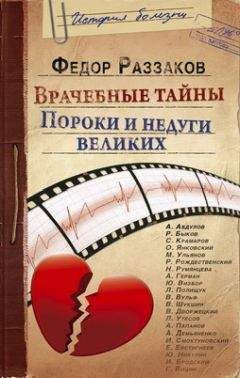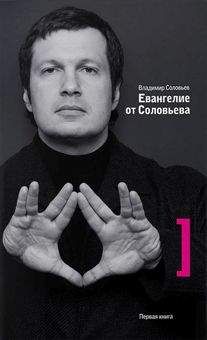– Федор Кузьмич!
– И с барышней! Барышня, вы кто такая будете?
Любовь или так, временное увлечение?
Архипов что-то пробормотал, и с изумлением и восторгом Маша увидела, как он покраснел – до глаз, до белых волос, и шея покраснела, и уши, как будто его за них драли.
– Как вас по имени-отчеству, барышня?
– Маша.
– Мария… как по батюшке, не расслышал?
Все он слышал, этот ехидный старик, и Маша моментально почувствовала себя дурой.
– Мария Викторовна Тюрина.
– Монахов Федор Кузьмич. Крестный отец, между прочим, кавалера вашего. Двух месяцев от роду крестился он у Николы на Курьих ножках. А я его на руках держал. Мыслимое ли дело?
Маша покрутила головой в знак того, что – нет, не мыслимое.
Двухмесячный Архипов, розовый, белый, со сморщенными нежными пятками, бессмысленными глазами, в кружевной крестильной рубахе, на руках у этого человека представился ей так живо, что теперь она покраснела и отвернулась.
– Да-с, – констатировал Федор Кузьмич, – дело плохо.
И все некоторое время помолчали.
– Марья Никитична о тебе осведомлялась, – сказал наконец старик, – а я что? Я только и знаю, что ты есть последний сукин сын и поганец! Не звонит, не пишет, говорю, сынок наш крестный.
– Я… не мог, Федор Кузьмич.
– А вот ждать, когда мы помрем, не надо, Володя! – резко ответил тот. – На похороны как раз можешь не являться, мы переживем. Мы к тому времени уже в райских чертогах с Петькой будем “Столичную” кушать, как всегда, с селедкой да с картошечкой, и над вами посмеиваться. А пока мы живы, ты про нас не забывай. Мы тебе не чужие.
– Я знаю, что не чужие. Я и не могу, Федор Кузьмич, потому что не чужие. Я только… сейчас привык, понимаете?
Старик посмотрел на него через очки, потом сдернул их и посмотрел просто так.
– Понимаю, – сказал он со вздохом. – В один год все убрались, ишь, подлость какая! Ну и ладно. А ты приходи. Марию Викторовну приводи, мы ей смотрины устроим. Как пол метет, как воду несет, как на стол собирает! А что? Так всегда было!
И тут он засмеялся – понравилось ему, как славно он пошутил. Маша стояла вся красная.
– Ладно. Что тут у тебя за шедевры? Посмотрим.
– Это рисовал Александр Васильевич Огус, – пояснил Архипов и выложил картины на громадный лабораторный стол, одну за другой, – а Маше они достались в наследство.
– Дочка, что ли? – нацеливая очки на картины, осведомился старик. – Да нет, не было у Сашки никаких дочек. Ни сыночков, ни дочек, никого… Да и картин он не писал! Это я вам точно говорю, молодые люди! Он так же точно не писал картин, как я никогда не пел в “Евгении Онегине”, что-то тут другое…
– Маша – дочь его жены, – объяснил Архипов зачем-то.
– Лизы? – удивился старик и как-то очень плотно провел рукой по незабудкам, сверху донизу, потом зачем-то понюхал свою руку и ловко перевернул картину незабудками вниз. Посмотрел холст, дотянувшись, взял лупу и уставился в нее.
– Вы… знали Елизавету Григорьевну? – не выдержала Маша.
– Ну конечно! Не так, чтобы хорошо, но знал, конечно. Милая, и со странностями. Все гомеопатией лечилась. От чего только, непонятно. А… где вы взяли сии творения?
– Мне Елизавета Григорьевна оставила их в наследство, а так они у нас на стенах висели. Много лет.
– Много лет, – повторил старик, – много лет. И дату поставил, умник! Ноябрь шестьдесят шестого.
Он колупнул холст и опять уставился в свою лупу.
– …в седые дали ноября, – забормотал он, не отрываясь от лупы, – уходят версты, как слепые, без палки и поводыря. Без палки и поводыря… Так-так.
Он разогнулся и кинул лупу на стол.
– Ну, ты прав, Архипов Владимир. Конечно, тут дело не в Сашкиной живописи, – ударение было почему-то сделано на слог “пи”. – Посидите. Я в лабораторию схожу. Только чудес от меня ждать не надо! Исследование надо поводить, исследование, а сейчас только рентгеном просветим, поглядим. Посидите.
Двумя руками, осторожно он взял картины и вышел с ними за дверь – не ту, которая вела в коридор, а ту, которая маячила в конце громадного, как университетский зал, кабинета.
Архипов посмотрел на Машу:
– Он… знал тетю, твой Федор Кузьмич? И ее мужа?!
– Знал, как видишь.
– Откуда?!
– Если Лизаветин супруг занимался живописью, значит, Федор Кузьмич его знал. Он эксперт высочайшего уровня. По-моему, академик. С ним дружили мои родители. Монаховы в тридцатые годы из Лондона приехали, вместе с Капицами. Отец Федора Кузьмича у Петра Капицы работал. Его, ясное дело, посадили и расстреляли, хоть Петр Леонидович и хлопотал как мог.
– Володя, ты говоришь какие-то… странные вещи. Академики, Лондон, тридцатые годы…
Архипов улыбнулся:
– Я в этом вырос. Мы, когда в Лондон ездили, всегда в доме Капицы бывали. Он, кстати, до сих пор есть, этот дом.
– Володя!.. – жалобно вскрикнула Маша.
– Володя, – передразнил Архипов, потянул ее со стула, подхватил и поцеловал.
Сердце сильно ударило, вильнуло и уехало в позвоночник, где и разорвалось. Стало жарко и душно, хотя в кабинете, похожем на университетскую аудиторию, вовсю работали кондиционеры.
Он погружался в поцелуй, как будто бездна заманивала его и наконец-то заманила, но это было совсем не страшно, только радостно и немножко больно, и хотелось еще, и снова, и опять, и пахло от нее домом, чистотой и свежей прелестью, как пахло в детстве, когда мать пекла на завтрак рогалики и не было в мире ничего лучше, чем этот горячий и радостный запах, и сейчас он вспомнил его – без боли и тревоги, как будто воспоминания вдруг отпустили его, позволили жить дальше.
Ну, вот и все. Ты пришел. Ты дома. Ты в безопасности.
Он целовал ее и знал, что его новая жизнь – продолжение старой, той, по которой он так тосковал, той, в которой “мы все были вместе”, – и она, наконец, нашлась, эта жизнь.
И все у него еще будет, будет, будет – вечер вдвоем, серьезный взгляд, обещание рая, и все обязательства на свете, и уют дедовского дома, и яблоневый сад, и маленькие дети, и качели под елкой, и “папа приехал!”, и рогалики на завтрак, и длинный патлатый пацан, свалившийся невесть откуда, и английский стишок, и разгромленная постель – то, ради чего на самом деле стоит жить, а не опостылевший “холостяцкий флэт”, тренажер и вечная боль в спине.
Он перехватил ее поудобнее, под спину, и даже укусил, потому что совсем не знал, как обо всем этом ей сказать, чтобы она поняла, но она, кажется, и так понимала, потому что прижималась к нему, трогала его, тискала и целовала так, что зубы скрипнули о зубы.
…Он отвезет ее в Лондон, чтобы она полюбила все то, что любит он, – парки, белок, дождь, траву, каштаны, пабы, смешных собак и старые машины. Он отвезет ее в Звенигород, на дачу, и покажет домик, где отсиживался, как раз когда приезжали те самые Капицы, потому что он боялся старика и прятался от него. Он отвезет ее в Питер и покажет школу, где учился, потому что был “одаренный”, а самая лучшая школа для “одаренных” была тогда в Питере, на улице Савушкина. И еще Неву, и Исаакия, и Каменноостровский проспект, и парк на Елагином острове, и Спас, и Сенатскую площадь в сдержанном обрамлении европейских дворцов, и фонтаны, и скверы, и стрелку Васильевского острова, которую так гордо и празднично омывает река, и Биржу, и кофейни, и дома серого камня, и крохотный дорогущий “Bed&Breakfast”, где они станут жить, и все на свете, а на свете так много всего, что он любит и что еще только будет любить – вместе с ней!..