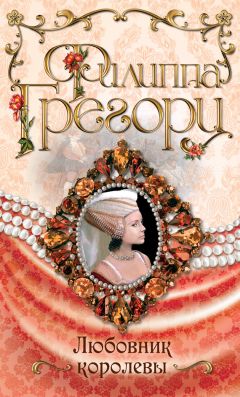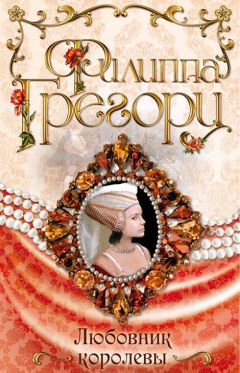Видимо, и от безнадежной любви можно устать — раз и навсегда. Ну, есть у Глафиры любовник, как же без этого… Ну и раньше-то не было особой надежды… А теперь придется, встречая в театре, проскакивать мимо, потому что смотреть на нее — как ножом по сердцу…
Вдруг Саньку осенило — никакого сбитня на Сенной, а нужно бежать домой, потому что мать наверняка беспокоится. Две ночи подряд пропадать — это уж многовато.
Про Анюту он ей рассказал, она не одобрила, но как-то стерпела. Но Анюта осторожна, и мать это понимает. Сейчас она, скорее всего, не спит, волнуется. Значит, домой, в жаркую комнатку, на перину.
Пока он размышлял, и впрямь началось утро. А началось оно с того, что в театральный двор привезли два воза дров. Сторож отпирал ворота, возчики заводили лошадей, ставили удобным образом сани, подошли предупрежденные с вечера истопники.
Темное утро и распахнутые ворота, мелькающие силуэты неуклюжих людей в тулупах, мечущий желтые пятна фонарь — можно проскользнуть незаметно и торопливой походкой устремиться прочь, моля Бога, чтобы скорее эта безумная и бестолковая ночь кончилась.
Надежда — странное создание. Померев вечером и упокоившись в чугунном гробу ночью, утром она, как ни в чем не бывало, щебечет и крылышками бьет.
И впрямь — женщина, имеющая одного любовника, может в скором будущем завести другого. Старый мудрый скрипач Гриша Поморский, собаку съевший на театральных интригах, однажды выразился так:
— Счастье театральной девке, когда во всю жизнь ограничится одним мужчиной. Коли появится второй — недалек день, когда появится и сто второй. Вот разве что она совсем уж ни рыба ни мясо…
Если Глафира способна заводить любовников, то может дойти очередь и до Румянцева. И точно дойдет! Именно тогда, когда прежнего огня в его душе уже нет, а есть уязвленное самолюбие, которому одно лекарство — торжество победы. С женщиной, имеющей любовников, церемонии не надобны, пылких и страстных взоров через всю сцену она не понимает, к ней нужно прийти и взять ее, как ту же Анюту, — это она понимает…
Сочинив в голове целую картину такого бесцеремонного и даже бессловесного взятия (при этом — наворачивая ячневую кашу с постным маслом), Санька дал матери слово, что на сей раз явится домой в приличное время, переменил сорочку с чулками и поспешил в театр.
Но не сбылось. Да и не могло сбыться. Сгорела надежда ясным пламенем возле той лестницы, что ведет к коридору, куда выходят двери мужских уборных. Румянцев уже на ходу распахнул шубу и прикидывал, успевает ли к началу занятий, когда пришлось остановиться.
— Саня! — окликнула его Федька, выходя из темного уголка под лестницей.
— Бонжур, — отвечал Санька, полагая, что этой любезности довольно. Однако она заступила путь. Это уж совершенно некстати — Федька с ее любовными изъяснениями. Нет, вслух она о страсти нежной не толковала, но взгляды, но это заметное стремление встать поближе, прикоснуться хоть к рукаву… противно, черт бы ее побрал…
На сцене, в нарядном коротком платье, открывавшем ногу на пол-аршина, да еще набеленная толстым слоем и нарумяненная, Федька могла понравиться не только простаку в партере. Сейчас же, умытая, с убранными в косу волосами, кутаясь в старую шубку, она была непривлекательна — и Санька боялся, что даст ей это понять чересчур откровенно.
— Саня, ты где вчера маску оставил? — спросила Федька.
— Какую маску?
— Танцевальную…
Санька задумался. Была ли на нем маска, когда он ворвался в уборную? Как оно получилось? Влетел, кинулся к стоявшим у печки валенкам… Где то движение, которым снимают маску, где?
— Не знаю, — сказал он. — Ей-богу, не знаю. Что ты ко мне пристала с этой маской?
— А где ты был после представления?
— Какого черта ты меня допрашиваешь? Поднялся в уборную, потом пошел домой. Тебе довольно?
— Тебя не было дома, ты пришел заполночь?
— А ты почем знаешь?
Федька смотрела на него с каким-то загадочным недоверием.
— Пусти-ка, — попросил Санька. Впереди было объяснение с товарищами, с надзирателем, а тут еще эта обожательница.
— Саня, ты и впрямь не знаешь, где маска?
— Да на что она тебе?
Федька опустила голову. Менее всего беспокоясь о ее странной блажи, Санька отодвинул девицу и проскочил мимо нее на лестницу. Но сбежать не удалось — Федька, не менее ловкая, чем он, ухватила его за подол шубы.
— Стой, дурак! — приказала она. — У нас беда стряслась.
— Что за беда?
— Стой, говорю. С Глафирой — беда.
— С кем?! Да что ты молчишь?! Говори внятно!
— Саня, ее больше нет.
— Как — нет? Где — нет? Так он…
Санька чуть было не выпалил: так он, проклятый риваль, увез ее прямо из театра, не заезжая к ней домой? Но удержался.
— Ты знаешь, кто он? — быстро спросила Федька. — Коли знаешь — беги в дирекцию, говори! Там сейчас полицейские сыщики сидят, всех по очереди вызывают! Да беги же! Все расскажешь и оправдаешься!
И ее рябое лицо преобразила радостная улыбка.
— Погоди, погоди… — до Саньки стало доходить, что они с Федькой имеют в виду не одно и то же. — В чем мне оправдываться — я же ее не увозил! Или…
— Саня…
— Что — Саня?
— Ее больше нет. Ее утром мертвую подняли.
— Что ты врешь!
— Ей-богу! За расписным задником, знаешь, где колесница Аполлона. Ее шнурком удавили. А рядом твоя маска валялась.
Этого было слишком много для быстрого понимания.
— Плотники пришли глуар чинить, там золоченое крыло отвалилось, и на нее наткнулись.
— Какой Аполлон, какой глуар?.. — бормотал Санька.
— Я тебя нарочно ждала — перехватить. Они там, в дирекции, думают — это ты…
— Я? Что — я?..
— Ну, ты… все же знают…
— Я ее не увозил, — сказал Санька. Некий умозрительный человек, (а, может, ангел-хранитель) засел в голове и твердил: Глафиру увезли, оттого дирекция послала за полицейскими, слыханное ли дело — похитить первую дансерку… А все дурное этот ангел отметал в сторону белым крылом — или же умозрительный человек отмахивался, как от осы… то-то радости было, когда на театральном чердаке отыскали осенью осиное гнездо…
— Санька, ты что, не разумеешь?
— Нет… да…
Глафира не могла умереть. Ведь столько было наобещано Санькиными страстными мечтами! Все могло перемениться — с любовником поссорилась, на обожателя обратила внимание, и не век же ему торчать в береговой страже, ему всего двадцать лет, еще немного — и все было бы позволено!
Санька разрыдался, как малое дитя. Он отпихнул Федьку, что кинулась утешать, и выскочил на улицу. Обида заполнила, как вскипающее молоко. За то, что Глафира дважды оставила его, за то, что лишила надежды навеки — и все мечты недействительны…