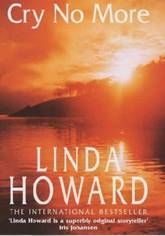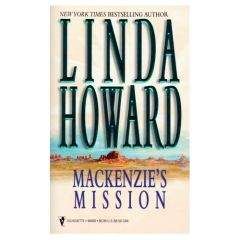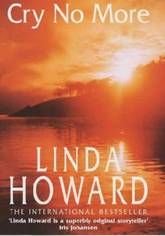— Ты называешь это эгоизмом? Желание увидеть своего украденного сына, которого мы считали потерянным столько лет?! Да ты, более чем кто-либо другой имеешь право быть с ним. Ты жизнь положила на то, чтобы найти нашего мальчика. Неужели ты не хочешь хотя бы поговорить с ним?!
— Я хочу, — отчаянно выдохнула Милла, — а еще я хочу обнять его, прижать к себе и не отпускать ни на минуту. Но теперь уже слишком поздно, Дэвид. Мы для него чужие, посторонние люди, у него другая семья. Если Джастин когда-либо захочет узнать нас, это должен быть его собственный выбор. Иначе мы нанесем ему непоправимый вред. Не для того я искала его так долго и мучительно, чтобы сделать несчастным. А он счастлив, и он в безопасности, теперь мы это знаем. Его любят, и он… он…
Она ничего не видела, слезы душили ее. Дэвид подписал бумаги и написал письмо для Джастина, в котором рассказал, как сильно он его любит и как мечтает когда-нибудь встретиться с ним. Милла вложила это послание в пакет с другими бумагами, туда, где уже лежало ее собственное письмо к сыну. Им оставалось надеяться только на то, что когда-нибудь Джастин-Зак прочитает эти письма и захочет с ними встретиться. Милла надеялась также, что Уинборны не уничтожат эти документы. Юридические бумаги, разумеется, были очень важны, но они могли бы просто запереть их в сейф и никогда не рассказывать Заку о биологических родителях. Да, она надеялась на то, что Уинборны рано или поздно расскажут сыну правду, но не упрекнула бы их, если бы они поступили иначе. Милла знала, что сама боролась бы до последней капли крови, чтобы защитить Джастина, так почему же они должны поступить иначе?
Что ж, она, наконец-то, нашла своего мальчика и поступила, как должно. Но это знание оставило горький вкус пепла на ее губах.
Открылась задняя дверь, и в кухню с большими бумажными пакетами в руках вошел Диас. Милла так глубоко погрузилась в свои воспоминания и мысли, что даже не услышала звук подъехавшего автомобиля. Диас посмотрел на нее быстрым испытывающим взглядом, но ничего не сказал, и стал молча раскладывать продукты по полкам. Милла не вполне осознавала его присутствие, во всяком случае, не с той сверхчувствительностью, которую обычно ощущала по отношению к нему. Диас был сейчас для нее всего лишь как предмет, как часть мебели. Горе и боль заполнили ее душу до краев, не оставив место для каких-либо других чувств и эмоций.
— Что ты будешь на завтрак? — спросил Диас. — Мюсли или рогалик?
Он хотел, чтобы она выбрала? Какое значение имеет то, что она будет есть?
— Рогалик, — наконец сказала она тусклым голосом, избавив себя от необходимости брать в руки ложку.
Он разогрел рогалик и даже намазал его сливочным сыром, а затем положил его на блюдце и пододвинул Милле. Она откусила кусочек и стала пережевывать, затем откусила еще раз, и еще, забывая глотать, пока не почувствовала, что задыхается. Как могла она сидеть здесь и спокойно есть этот проклятый рогалик, словно не отдала вчера своего мальчика чужим людям?
Милла оттолкнулась от стола и вскочила на ноги, опрокинув при этом стул. Мягко, по-кошачьи Диас поднялся из-за стола, словно приготовившись к неожиданному нападению. Во внезапном порыве слепой ярости, девушка схватила из сушилки для посуды миску, в которой Диас вчера вечером разогревал суп, и изо всех сил бросила ее об стену. Раздался оглушительный звон, и разноцветные осколки посыпались на пол. Милла схватила ложки и тоже швырнула их, следом за ними полетели тарелки. Они разлетелись вдребезги, и этот звук принес девушке странное удовлетворение. Рыдая, она открыла дверцы шкафа и начала выхватывать оттуда все, что только попадалось под руку: тарелки, стаканы, блюдца, чашки, бокалы. Она что есть силы, швыряла все это об стену, рыдая в бессловесной муке. Диас не двигался с места, кроме тех случаев, когда брошенный предмет летел прямо в его голову. Тогда он слегка отклонялся или опускал голову, а затем снова выпрямлялся в полный рост. Молча, он наблюдал за тем, как Милла постепенно разрушает его кухню. Но вот взрыв ярости утих так же внезапно, как и начался, и рыдая, Милла опустилась на колени посреди разгромленной, усыпанной осколками кухни. Тогда Диас молча подошел к ней, поднял на руки и отнес в спальню. Словно раненое животное Милла свернулась на краешке кровати и непрерывно плакала, пока сон наконец-то не сморил ее.
Она проснулась несколько часов спустя, вышла из комнаты и увидела, что на кухне убрано, а Диаса снова нет дома. Когда он вернулся домой, у него в руках была картонная коробка, в которой лежали разрозненные блюдца и кофейные чашки. Диас поставил коробку на стол и снова вышел, чтобы занести еще одну, заполненную тарелками, стаканами, мисками. Все они были из разных сервизов. Он распаковал посуду и поместил ее в посудомоечную машину.
Голова у Миллы раскалывалась от боли, глаза опухли и покраснели от слез, а горло саднило.
— Я сожалею, — пробормотала она.
— Никаких проблем.
Она вздохнула.
— Где ты взял посуду?
— Я нашел распродажу возле одного из домов, когда двигался по Китти-Хок[38] к магазину Уол-Март.
Учитывая, насколько пустынными были Внешние Отмели в это время года, найти распродажу было равносильно чуду. Еще через минуту она представила этого мрачного, одетого во все темное мужчину, расхаживающего по рядам и скупающим старые чашки и тарелки. Он и сам, наверное, не понял, насколько неуместно выглядел там, среди обыденных, бывших в употреблении вещей.
Потом Диас сделал бутерброды, и Милла поела, а после обулась, накинула пальто и медленно побрела к океану. Она шла, казалось, целую вечность. Прохладный ветерок обдувал ей лицо, а разум так оцепенел, что Милла не могла ни о чем думать. Но сейчас для нее это было даже благом. Наконец она повернулась, чтобы вернуться обратно к дому и резко остановилась, увидев невдалеке Диаса. Он держался на расстоянии примерно тридцати-сорока ярдов, не нарушая ее уединения, но, тем не менее, не упуская ее из вида.
Он стоял и ждал Миллу, спрятав руки в карманы черного жакета, сощурив глаза от морского бриза. Милла знала, что это необъяснимо, но она вдруг почувствовала ярость, увидев его рядом с собой. Не останавливаясь, она выкрикнула на ходу:
— Боишься, что я утоплюсь?
Вопрос был задан сердитым, язвительным тоном, но его тихое "Да" заставило девушку замолчать. Она шла, пытаясь удержать незваные слезы. Ее веки были настолько опухшими и воспаленными, что Милле не хотелось снова плакать. Она не забыла, как вышагивала этой ночью без сна, думая об океане и о своем желании броситься в холодные волны, чтобы навсегда избавиться от горя и боли. Но Милла знала, что никогда не сможет сделать этого. Слабость была не свойственна ее натуре, потому что, если бы это было так, она не продержалась бы все эти мучительные десять лет неведения и страха.