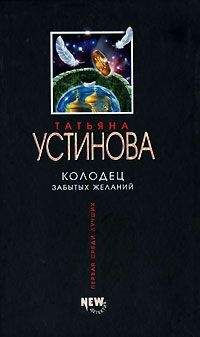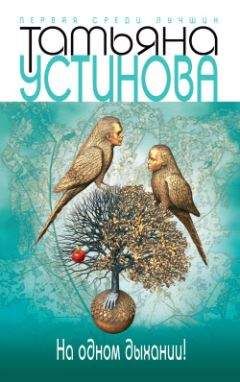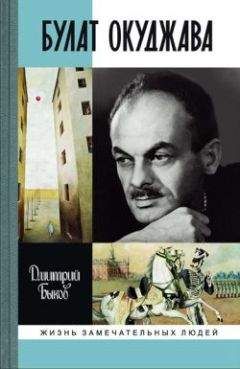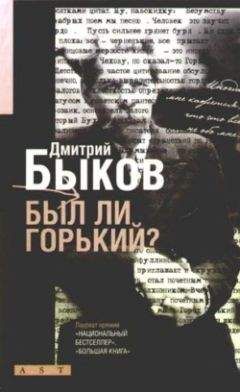Тут он вдруг заподозрил неладное и встревожился. Ему показалось, что мать вот-вот заплачет, а для него не было худшего горя, чем ее слезы.
— Мам, ты чего? — спросил он испуганно и посмотрел ей в лицо. — Ты чего, а?
— Ничего, ничего, сыночек. Все хорошо, — сказала мать, и он понял, что не зря заподозрил — у нее был странный, насморочный голос и нос покраснел. Может, простудилась? Федор не любил простуживаться. Бабушка натирала его скипидаром и ставила горчичники, которые жгли.
— Мам… я макарон хочу!
— Сейчас, сейчас будем ужинать. Скоро.
— Ну, я пошел, — объявил с порога отец. — До свидания. Вещи мои завтра соберешь, я заеду.
Мать вцепилась в Федора так, что он взвизгнул:
— Больно!
— Прости меня, сыночек.
Держась очень прямо и не выпуская плечика Федора, за которое она ухватилась, мать повернулась, и Федор вынужден был повернуться вместе с ней.
— Мам, пусти!.. И я макарон хочу.
— Почему прямо сейчас? — спросила мать ужасным, не своим, мертвым голосом. — Зачем сейчас? Что за спешка? Может быть, утром поедешь?
— Да какая разница, утром, не утром, — устало ответил отец. — Самое главное, мы все решили.
— Решили? — переспросила мать.
— И не начинай! — Отец повысил голос, и Федор окончательно перепугался. Выходит, скандал все-таки будет, а он не успел, не сообразил, не отвел беду заранее!
— Мама, — заскулил он в надежде отвлечь ее, — я макарон хочу!.. Или каши! Каши даже еще лучше!
Он не любил кашу, но знал, что мать всегда была довольна, когда он ее ел. Каша считалась «полезнее» макарон.
— Ну и уходи, — выговорила мать. — Давай, мчись, вдруг опоздаешь! Или тебе там по шее дадут, если вовремя не примчишься? Давай-давай, мы и без тебя справимся! — И она опять больно подхватила Федора под мышки и прижала к себе. — Правда, миленький? Правда, мой хороший? Никто нам не нужен, мы сами, сами!..
Вот этого подросший Федор и не мог ей простить — того, что они «сами»!.. Он помнил это очень отчетливо всю жизнь и, когда подрос, стал помнить даже острее, чем в детстве.
Отец ушел не за хлебом и не к бабушке поехал, он ушел навсегда, вот что означало их сидение на диване с грозными напряженными лицами. Он ушел и как-то очень быстро про них забыл — и про мать, и про Федора.
Несколько раз он приезжал, и Федор тогда все еще до конца не понимал и каждый раз удивлялся, почему отец забирает его на улицу и они торчат там так долго. На улице, на продуваемом со всех сторон унылом пространстве московского двора, было скользко и неуютно. Они слонялись возле гнутых ржавых железок, которые когда-то давно были каруселькой и лестничкой — в этих карусельках и лестничках выражалось «благоустройство московских новостроек».
Все время была зима, из своих немногочисленных встреч с отцом Федор Башилов помнил почему-то только зиму, или отец больше никогда и не приезжал?..
Они слонялись, и Федор даже пытался лазать по гнутым железкам — так он себя развлекал — и катался с деревянной облезлой горки, только кататься было неудобно. В волосатые рейтузы моментально забивался снег и смерзался в ледяную корку, шапка съезхала на глаза, и узковатое пальтецо мешало ужасно. Отец смотрел на него с отвращением, а может, это Федор потом придумал, что с отвращением!.. После он приводил сына домой, где всегда пахло одинаково — щами и стиральным порошком. По выходным мать стирала и варила огромную кастрюлю щей, чтобы хватило на неделю. В будни готовить ей было некогда. После того как отец ушел, она устроилась еще на какую-то дополнительную работу, и Федор за это на нее очень сердился — она совсем перестала бывать дома, и книжку про Тигру они больше не читали. Она теперь приходила поздно, садилась на кухне прямо в сапогах и дурацкой вязаной беретке, которая очень ее портила, закрывала глаза и сидела так подолгу, Федору казалось, что несколько часов. С сапог натекала небольшая грязная лужица, и Федор, сопя, тащил из ванной огромную жесткую тряпку и сосредоточенно ползал по полу вокруг ее ног, подтирал лужицу.
Иногда она открывала глаза, улыбалась и говорила ему, что он ее «помощник».
— Никто нам не помогает, — говорила она тогда, — ну и ладно. Мы сами справимся, правда, Феденька, сыночек?..
Он соглашался, пока был маленький, а потом перестал соглашаться.
Она никогда не плакала, наверное, чтобы не пугать его, и заплакала только один раз.
Ему было уже лет двенадцать, и он уже ненавидел жизнь, которой они живут. Ненавидел крохотную квартирку, где был слышен каждый звук, ненавидел двор, нищету и запах щей и стирального порошка. И постоянную усталость, в которой жила мать, он тоже почти ненавидел и все вечера проводил у телевизора, где показывали совсем другую планету: дорогие машины, красивые женщины, романтика и фейерверк развеселой бандитской жизни — вот что было тогда в телевизоре!
Мать однажды пришла с работы и, как обычно, сидела на кухне, закрыв глаза, а в телевизоре очень красивый комментатор значительно говорил что-то про Париж, про коллекцию картин, про культурные связи и все в таком духе.
Мать вдруг разлепила веки, тяжело поднялась и зашла в комнату, где Федор неотрывно смотрел в экран.
— Сапоги бы хоть сняла, — пробурчал он.
Он уже не ползал с тряпкой вокруг ее ног и не старался навести чистоту, ему тогда уже почти на все было наплевать.
— Я там была, — вдруг сказала мать.
— Где? — не понял Федор.
— В Париже, — и головой она показала на экран.
— Когда? — поразился Федор.
— Еще в институте. Тогда это называлось по обмену. Я же учила французский язык, и меня на практику послали в Сорбонну. Я прожила там сорок восемь дней.
Федор перевел взгляд на экран, где уже рассказывали о чем-то другом, и пожал плечами.
Его мать не могла иметь никакого отношения к той жизни, которую показывали по телевизору. Не могла, и все тут!
Она вдруг сорвала с головы беретку, прижала ее к груди и одной рукой стала неловко стаскивать сапоги.
— Сейчас, сейчас, — бормотала она, — сейчас я тебе покажу!.. Как же я про них забыла!..
Прямо в пальто, с береткой в руке, которая ей мешала, она проворно протиснулась к серванту, стала на колени, раскопала в вазе, заваленной телефонными счетами и какими-то желтыми от времени и пыли квитанциями, потайной ключик от нижнего отделения, распахнула дверцу и стала вываливать что-то на пол.
Федор знал, что нижнее отделение серванта всегда заперто, и знал, где лежит ключик, и не раз туда заглядывал, но там не было ничего интересного — какие-то бумаги в картонных папках с белыми тесемками, альбомы с черно-белыми фотографиями стариков и старух с неулыбающимися застывшими лицами, корочки дипломов, всякая дребедень.