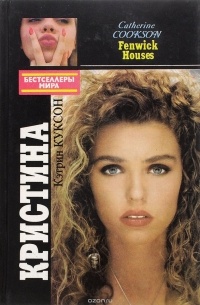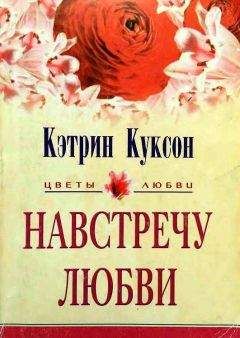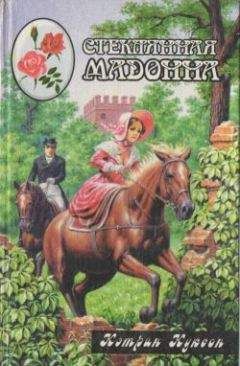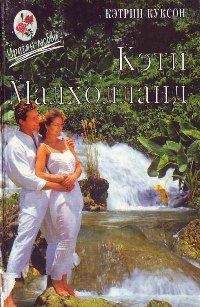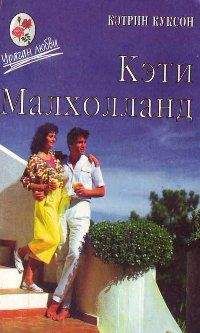издавал такие же звуки. В следующий момент ноги сами понесли меня через лес, и я находила дорогу домой скорее инстинктивно, чем по каким-то приметам, потому что мои глаза буквально ослепли от потока слез. Наконец я вырвалась из полумрака леса и очутилась на залитой утренним солнечным светом улице. Я ворвалась в дом, с силой толкая двери, сокрушая на своем пути стулья, какие-то другие мелкие предметы, и бросилась, нет, не к матери, — к отцу.
— Папа! Папа! Пойдем! — с плачем выкрикивала я. — Бедный кролик, бедняжка. О, папа… папа.
Я выбила у него из рук кусок поджаренного хлеба, и жир брызнул на скатерть. Мать воскликнула:
— Да что это с тобой, дочка? Посмотри, что ты наделала! Что произошло? — потом, словно напуганная какой-то неожиданной мыслью, она оттащила меня от отца и, встряхнув, проговорила — Перестань! Перестань! Что случилось?
— Кролик, кролик, бедный кролик! — только и могла выговорить я. — Кто-то приколотил его гвоздем к дереву. За заднюю лапу, она вся в крови.
Я повернула к ним свои ладони, испачканные кровью, и отец тут же поднялся из-за стола.
— Где?
— В гавани, папа, там, наверху.
Одевая на ходу куртку, без которой отец никогда не покидал дом, он поспешил за мной. Я все время бежала, но, когда мы достигли поляны, он отстал лишь на несколько 30 шагов. Пройдя вперед и увидев, что я медленно приближаюсь к нему, отец резко приказал:
— Стой там!
Я видела, что он пытается освободить кролика, выдернув гвоздь. Попытка не удалась. Отец достал из кармана нож, помедлил и отрывисто бросил мне:
— Кристина! Отойди за деревья.
Я отвернулась и, заткнув уши, бросилась на край поляны.
Через несколько минут я услышала за спиной шаги отца. В руке он держал мертвого кролика. На шее зверька была кровь, одной ноги не хватало. Я ничком упала в сырую граву, мой желудок, казалось, прилип к позвоночнику и похоже, был готов извергнуть из себя все, что в нем находилось.
В школу я не пошла.
Мать в тот день должна была работать у миссис Дюррли и взяла меня с собой. Когда мы достигли моста у подножия холма, там было многолюдно. Мужчины не сидели на корточках и не перегибались через парапет как обычно, а стояли группой. Только подойдя, я сообразила, что они все слушают моего отца. Впервые я услышала, как он ругается. Я не видела его лица, но догадалась, что сейчас оно должно быть вытянувшимся и жестким, потому что он кричал:
— Если бы я нашел того сукина сына, который сделал это, я приколотил бы его гвоздями к чертову дереву своими собственными руками. Педик проклятый! Еще неизвестно, как такое зрелище повлияло на мою Кристину.
В тот момент я обратила внимание на два обстоятельства: мой отец использует бранные слова, а моя мать не делает ничего, чтобы его остановить. Мы обогнули собравшихся, словно не знали никого из них — даже человека в центре группы. Некоторые посторонились, чтобы пропустить мать, и когда мы поднялись к середине моста, я услышала, как один из мужчин сердито сказал:
— Давайте пойдем и разыщем этого Ганторпа.
Я вспомнила его лицо, озаренное утренним светом, и собачку, прижавшуюся к его башмаку и штанине из грубой п ани, и его «здравствуй». И тут мною овладело такое чувство, которое я не в состоянии точно описать. Это было нечто вроде скорбного недоумения. Фитти всегда казался мне частью леса, он вписывался в него так же естественно, как и деревья, но все же к одному из них он прибил гвоздем кролика — так, по крайней мере, я сказала себе.
Я была так расстроена, что не обратила никакого внимания на красоту и комфорт дома миссис Дюрран. Я не могла видеть ничего другого — перед глазами стоял кролик с остекленевшими от боли глазами. Положив руку мне на голову, миссис Дюрран повернулась к матери и сказала:
— Какая ты счастливая, Энн, — потом вновь взглянула на меня и добавила — Ничего подобного я прежде не видела. Даже сразу не скажешь, золото это или серебро, — выходя из комнаты, она задержалась и со смехом поинтересовалась — Что ты за нее хочешь?
Мать тоже засмеялась и ответила:
— Я не отдам ее даже за весь чай Китая, мэм.
У миссис Дюрран детей не было, зато имелось много денег, большой дом, красивые наряды. В тот день мать принесла домой большой пакет с одеждой и корзинку с едой. Но ни то и ни другое не вызвало у меня особой радости.
Мы вернулись в половине второго и увидели возле дверей нашего дома какого-то человека. Он снял кепку и спросил:
— Вы миссис Винтер, мадам?
— Да, а в чем дело?
— Я — Джон Ганторп.
— О! — произнесла мать. — Заходите, пожалуйста.
Он был такого же роста, как Фитти, его волосы были густыми, но очень седыми, лицо и руки — чистыми (похоже, их основательно скребли), и хотя одежда его была старой, а на кармане куртки красовалась заплата, выглядел он очень опрятно.
— Я хочу видеть вашего мужа, миссис, — проговорил он.
— Он вот-вот придет. Выпьете чашку чая? Я как раз собиралась поставить. Пока поднимешься на этот холм…
— Нет, спасибо, миссис, — он стоял, переминаясь с ноги на ногу, мял свою кепку, потом, скрутив ее в трубку, сунул под мышку и посмотрел на мать, она — на него. Потом он выпалил — Девочка ошиблась, мой сын не мог сделать ничего подобного. Он любит животных… с ума по ним сходит. Это единственное, ради чего он живет, — Гантроп вызывающе дернул головой. — Он не псих, мэм. У него бывают припадки, но он не умственно отсталый.
— Я знаю, — сказала мать.
— Если бы не эти припадки, знаете, кем бы он был?
Мать не ответила, и он продолжал:
Ветеринаром, вот кем бы он стал. И говорить, что он прибил кролика гвоздем к дереву… — Ганторп медленно покачал головой. — А эти невежественные горлопаны прибежали к моему фургону. Они бы линчевали его, миссис, понимаете? Еще одна искра, и они бы линчевали его. А примени и ума у них для этого достаточно.
Я пристально смотрела на него, застыв на месте. Он подошел ко мне и, склонив свою долговязую фигуру, мягко проговорил:
— Деточка, мой парень не мог так поступить, постарайся поверить в это. Да, кто-то прибил гвоздем кролика, какой-то жестокий человек, но не мой сын. Ты можешь понять это, дорогая?
Я склонила голову в знак согласия. Он выпрямился и сказал матери:
— Где мне