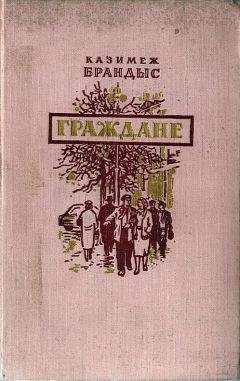— Подсудимый, когда вы впервые связались с «Дергачем»? — спросил прокурор.
— В июле 1949 года, — спокойно ответил Дзялынец.
— При каких обстоятельствах?
— Подсудимая Красуская устроила нам свидание в «Охотничьем» баре на Новогродской улице. Я знал «Дергача» еще со времен оккупации.
— О чем у вас был разговор? Может, вы припомните?
— «Дергач» тогда только что приехал из Лондона, — пояснил Дзялынец. — Он расспрашивал меня о здешних настроениях. Говорил, что война на носу, и дал мне ряд указаний.
— Какие же это были указания? — спросил прокурор тоном учителя, который рассчитывает на хороший ответ ученика.
— Насчет методов работы. «Дергач» придавал важное значение «психической мобилизации» людей ввиду близости войны. В особенности — подготовке интеллигенции и молодежи. Он поручил мне держать связь кое с кем. Между прочим и с техническим отделом через подсудимого Августиновича. И еще — организовать распространение листовок, которые…
— Которые должны были способствовать «психической мобилизации»? — докончил за него прокурор. — Другими словами, разжигать ненависть? Подстрекать к убийствам?
В голосе прокурора не было теперь прежних поощрительных нот. В нем клокотал гнев. Из приемника послышались возбужденные перешептывания публики и какой-то шум вроде свиста ветра. У микрофона кто-то кашлял. Моравецкий ждал ответа Дзялынца.
Но раздался снова голос прокурора:
— Подсудимый Дзялынец, попрошу ответить на следующий вопрос: знали вы о совершаемых вашей организацией убийствах активных членов ПОРП? Например, в Замойском и Скаржиском уездах? Я полагаю, что как организатор пропаганды вы не могли о них не знать.
Минуту-другую длилось молчание, потом прозвучал ответ Дзялынца:
— Конечно, я сознавал, что в политической борьбе эти методы неизбежны.
«Негодяй!» — подумал Моравецкий.
Цинизм подсудимого вызвал естественное возмущение публики, — сообщил баритон диктора.
Потом несколько вопросов задал председатель суда. Он, вероятно, был человек пожилой: говорил монотонно и с расстановкой. Вопросы его касались банды «Рыбака», жертвами которой пали активисты ПОРП в Скаржиском уезде, Ян Майда и отец и сын Бернацкие. Всех троих бандиты ночью увели из дому, а трупы их только через неделю нашел патруль милиции между штабелями дров на опушке леса.
Председатель спросил, был ли Дзялынец осведомлен о деятельности этой банды и передавал ли ей тоже «пропагандистские материалы».
Дзялынец ответил, что материалы он рассылал через «Агату», то есть Красускую. Сети их организации он не знал. «Непосредственными актами» не занимался.
Председатель предложил ему подойти к судейскому столу. Зашуршала какая-то бумага. — Подсудимый, вам этот текст знаком? — Дзялынец ответил, что это одна из отредактированных им листовок.
— Да, это ваша листовка. Люди «Рыбака» оставили несколько штук во дворе у Бернацких.
Председатель долго откашливался, словно умышленно пережидая, пока не утихнут свист и треск в радиоприемнике. И, наконец, продолжал:
— Вы не могли не предвидеть таких последствий своей пропаганды. И совесть ваша молчала?
Дзялынец возразил довольно равнодушно:
— Я выполнял свои обязанности.
«И в это самое время он по вечерам ходил ко мне в гости!» — вспомнил Моравецкий.
— Такова была «психическая мобилизация», которую проводил профессор Дзялынец, — заключил диктор.
Затем давали показания свидетели, среди других и вызванный в суд ученик Кнаке.
Моравецкий слушал, испытывая не жалость, а ужас. До сих пор он думал о людях, сидящих в тюрьме, с невольным сочувствием, которое, вероятно, объяснялось тем, что он не верил в исправительное влияние изоляции. Осужденных он жалел не потому, что снисходительно относился к их преступлениям, а потому, что такая кара, по его мнению, никакой пользы принести не могла. Он страдал, когда видел, как конвойные ведут арестованного: это зрелище говорило об унизительном бессилии общества против зла.
Но Дзялынец избавил его даже от этой невольной жалости. Он давал показания хладнокровно и резким тоном; так говорят люди вооруженные. Моравецкий не видел его лица, но был уверен, что оно выражает презрительное спокойствие. Перед судом стоял человек в броне. Он сознавался в своих преступлениях только потому, что этого требовали обстоятельства, но ничуть не раскаивался в них. Он говорил: «Это было согласно с моими убеждениями» или «Я считал, что так надо» — и всем было ясно, что слова его означают: «Я и сейчас считаю, что так надо, это и сейчас согласно с моими убеждениями». Диктор назвал Дзялынца «преступником с профилем мыслителя».
Никто из подсудимых не отрицал, что их организация стремилась свергнуть народную власть и помогала разведке империалистических держав. Кроме псевдонимов и фамилий эмигрантов, были названы иностранные фамилии, — речь шла о сотрудниках иностранных посольств, с которыми были связаны подсудимые.
— У меня словно бельма были на глазах, — говорила подсудимая Красуская.
— Я заслуживаю суровой кары, — признал Августинович, бывший офицер. А Ядвига Бернацкая, крестьянка из деревни Гродзец Скаржиского уезда, сказала: — У меня убили мужа и сына.
«Нет больше сомнений, что Дзялынец находил в себе смелость творить зло. Но был ли он преступником?»
Моравецкий требовал от себя прямого ответа на этот вопрос. Человек должен всегда безошибочно знать, что является преступлением.
Дзялынец имел смелость убивать, хотя и не делал этого собственноручно. Листовки, которые он выпускал, открыто говорили, что можно убивать некоторых людей. Дзялынец присвоил себе право обрекать на смерть тех, кто не разделял его убеждений.
Майда и Бернацкие были уездными работниками ПОРП. Моравецкому было известно, что это значит: люди эти убеждали крестьян сделать землю общей собственностью. Убивать таких людей способны только озверелые глупцы. А Дзялынец не глуп, это Моравецкий знал хорошо.
Так что же? Следовательно, он преступник? Выключив радио, Моравецкий долго ходил по комнате. Этой ночью он должен был осудить Дзялынца. Шагая из угла в угол, он прошел мимо кресла, о котором Дзялынец говорил, что «в нем хорошо думается», — было это в те самые дни, когда Кнаке приходил к Дзялынцу брать листовки. Показания Кнаке еще звучали в ушах Моравецкого. Мальчик давал их тем же голосом, каким отвечал урок у доски: «Профессор Дзялынец поручал мне разбрасывать их небольшими пачками, но регулярно. Я несколько раз просил его освободить меня от этого. Тогда он отвечал, что мои товарищи, которые шли на смерть во время варшавского восстания, не просили освободить их от этого».
«Негодяй!» — снова подумал Моравецкий.
Преступление Дзялынца состояло в узурпаторстве. Он считал себя призванным карать людей, разжигать ненависть в угоду своим убеждениям. Но этих убеждений не разделяли Майда и Бернацкие. Майда был до войны батраком у помещика, Бернацкие — малоземельные крестьяне. Их убеждения выросли на скудной каменистой почве. Батрацкий пот удобрял эту почву в течение веков, пока она, наконец, не дала могучий и грозный урожай: социализм. Майда и Бернацкие, наверное, не читали «Капитала» Маркса, но Маркс провидел их судьбу. Майда, Бернацкие и другие были хлебом нового урожая. А Дзялынец, сын арендатора имения на Подолье, читал Маркса. Он все понял, ибо природа щедро одарила его умом, и даже считал себя чуть ли не социалистом. Но социализм, построенный другими, наполнял его страхом. А он из тех людей, у кого страх переходит в ненависть, уже не подвластную рассудку. Страх и ненависть имеют руки, которые быстро хватаются за оружие. И оружие было наготове, его ковали в течение столетий те, кто владел землей, фабриками и заводами. Дзялынцу недолго было дойти до своих «убеждений». И так же легко дошел он до преступления.
У Моравецкого немного отлегло от сердца: нет, его, Ежи Моравецкого, не судят на этом процессе. Никогда не поднял бы он руки на святое дело освобождения народа. Он всегда смиренно преклонялся перед народом и молча, без бунта, вручил ему и теперь свою судьбу. Он считал, что не имеет никаких прав: он ничему не мешал, но ведь он ничем и не помог народу в его борьбе. Он только пытался все осмыслить. У него не хватало мужества ни на то, чтобы творить добро, ни на то, чтобы творить зло. «Я не идеолог», — часто говаривал он Кристине.
Ему вспомнился голос прокурора:
— Скажите, свидетель Кнаке, вам кто-нибудь помогал подбрасывать листовки или вы делали это один?
— Я заставил товарища из младшего класса Томалю помогать мне.
— И что же, Томаля не просил освободить его от этого?
— Просил… Он очень боялся.
— А вы что ему на это сказали?
— То же самое, что профессор Дзялынец говорил мне… Про варшавских повстанцев.