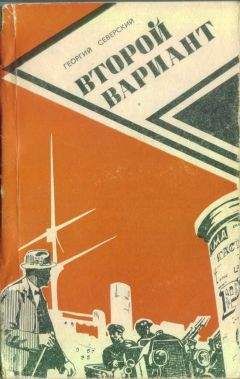— Что еще передавал граф? — спросил Ве-ниамин.
— В Варшаве получена секретная легитимация: если на Украине и в Белоруссии польская армия добьется успеха, Франция и Англия признают права Польши на границы 1772 года.
— Граф считает, что подобное возможно не только на бумаге? — сдержанно спросил епископ.
— Так будет! — сверкнула глазами Елена.
Беспокоили глубокие миндалевидные глаза Грабовской: заглянув в них, епископ так и не сумел определить, чего же больше в глазах — тревоги или фанатизма. Про себя подумал: вот такие, как она, мечтают о границах Речи Посполитой 1772 года. Это значит: Украина, Белоруссия, Литва, часть Латвии должны отойти Польше. Епископ внутренне усмехнулся: и в этом полякам помогают союзники, те самые, которые помогают и Врангелю в его борьбе за «единую и неделимую»! Спросил Елену:
— Вы сказали, что у графа есть ко мне просьба. Какая?
— Она касается меня… Вы не откажетесь помочь мне? — Елена вызывающе улыбнулась.
Она опять поражала: деловитость и кокетство сочетались в ней самым неожиданным образом. И епископ с досадой подумал, что он, считавший себя хорошим знатоком человеческой души, все еще не может до конца разобраться в своей посетительнице.
— Слушаю вас, — как можно учтивей сказал он.
— Меня нужно переправить к большевикам… В Харьков… И не только переправить, но и организовать в Харькове «крышу».
— Позвольте, позвольте, — огорошенный Вениамин встал. Совсем сбитый с толку, он отошел к книжному шкафу и оттуда смотрел на Грабовскую. «Переправить в Харьков? Организовать "крышу“? Так называют убежище для нелегального проживания», — вспомнил он. — «Что у них, больше некому заниматься шпионажем?» — думал епископ.
Грабовская, понимая, о чем он сейчас может размышлять, сказала:
— Езус-Мария! Это не для разведки. В Харьков приехал изменник польской нации Дзержинский. Он расстрелял наших боевиков и среди них моего друга. Наш «Союз» вынес ему смертный приговор, я должна привести его в исполнение.
«Час от часу не легче. В какую историю ввязывает митрополит! Вот тебе и святая католическая церковь!» — думал ошеломленный Вениамин, но отказать в просьбе не мог, они уже давно — к взаимной выгоде — оказывали друг другу секретные услуги. Епископ взглянул на Елену. Она сидела с какой-то неопределенной улыбкой на губах. Вениамин скользнул взглядом по се девичьей талии и, опустив глаза, сухо сказал:
— Пани Елена, из того, что вы говорили, я ничего не слышал. С вами свяжутся люди полковника Тума-нова. Запомните эту фамилию. Расскажете все, что считаете нужным, и они вам помогут.
Река Салгир делила Симферополь на две части. Когда-то на высоком левом берегу Салгира находился ретрашемент[1] Суворова, теперь это был почти центр города, а на правом, низинном, берегу привольно раскинулось сплетение «липовых», «луговых», «полевых» улиц так называемого нового города, особняки его прятались за каменными заборами, буйно цвели сады, овевая все вокруг пряным, вяжущим ароматом.
С возницей Журба расстался, как только проехали мост через Салгир. Щедро расплатился и пошел по теневой стороне Салгирной улицы, разглядывая старые дома со сплошными вывесками: «Ресторан Ланжерон», «Вина подвалов Христофорова», «Мануфактура братьев Мазлумовых», «Бакалея Сушкова».
За синагогой — гостиница «Большая Московская». К ней подъезжали нарядные экипажи, пожилой генерал помогал сойти даме в пестром шелковом пальто и широкополой шляпе, у подъезда чему-то смеялись две кокетливо одетые девушки, а напротив у зеркальных витрин торгового дома Цеткина друг за другом стояли пролетки извозчиков.
Сложное чувство испытывал Журба в эти первые минуты в Симферополе. Город он знал хорошо — не раз бывал здесь с отцом. Внешне Симферополь не изменился. Те же улицы, дома, вывески, и все же он попал как будто в иной город, только похожий на тот, памятный с детства, провинциально тихий, неторопливый. Журба тут же и понял, чем вызвано это странное неузнавание: город — не только улицы и дома, но прежде всего люди, их поведение, облик. По знакомой улице текла пестрая, шумная, чуждая ему жизнь.
Вот в эту жизнь ему предстояло войти, слиться с ней, здесь для него начнется главное, для чего он проделал длинный и опасный путь.
Ближе к большому, шумному базару, с которым сливалась Салгирная, потянулись лавчонки и кустарные мастерские матрасников, сапожников, шорников, тут же бойко торговали закусочные, чебуречные, шашлычные, из распахнутых окон и дверей несло кисловатым запахом дешевого вина, горелого бараньего жира и лука.
Журба присмотрел кофейню, где на его взгляд, можно было спокойно посидеть. В киоске рядом он купил газеты, все, какие были, и вошел в заведение. Выбрав место в сторонке и заказав еду и кофе, он углубился в чтение.
В Крыму в это время издавалось множество газет: симферопольские «Южные ведомости», «Таврический голос», «Заря России», «Курьер», севастопольские «Крымский вестник» и «Юг России», выходил официоз штаба Врангеля «Великая Россия»; выпускались газеты в Керчи и Феодосии, и даже в маленькой Ялте была своя газета «Наш путь».
Но Журбу интересовала одна: «Таврический голос». И даже не сама газета, а лишь отдел объявлений. Они были самые разнообразные. Броско рекламировала свою продукцию автомобильная фирма братьев Шлапаковых и посудный магазин Киблера, заезжий хиромант заявлял: «Я знаю тайну вашей жизни!», зазывал «только взрослых» кабачок «Летучая мышь», предлагали свой услуги врачи, акушеры, массажистки, репетиторы.
Журба внимательно прочитал всю эту пестрятину. Того объявления, которое предупреждало бы, что на нужную квартиру идти нельзя, не было. Бегло просмотрел другие газеты. Официальной информации в них было сравнительно мало, гораздо больше внимания уделялось всевозможной «хронике», то есть слегка подправленным и облагороженным сплетням, всякого рода пророчествам, наскоро обновленным анекдотам. Взахлеб восхвалялся новый правитель и новые порядки и, конечно же, в изобилии преподносились описания ужасов «большевистского ада».
Выйдя из кофейни, Журба пошел через базар. Здесь царило крикливое многоголосье. За длинными деревянными стойками замысловато расхваливали свой товар «дамы рынка». Сновали с большими графинами на голове продавцы пенной бузы и просто подслащенной, подкрашенной воды. В пестрый гул вливались выкрики точильщиков и стекольщиков, монотонные причитания нищих, разбойничий посвист беспризорников.
Базар с примыкавшим к нему «толчком» упирался в поросший кустарником откос, на котором высилась кладбищенская церковь. Журба поднялся на кладбище, похожее на огромный разросшийся парк. В зелени чернели мраморные кресты, холодно шелестели мертвыми листьями жестяные венки. Машинально читая надписи на памятниках, Журба прошел в глубь кладбища, в старую, уже заброшенную его часть. Было пустынно и тихо среди заросших травой могил и обветшалых надгробий.
Журба внимательно осматривал их. В основании одного из памятников зияла большая дыра. Оглядевшись, Журба тщательно свернул свою брезентовую куртку, вложил в отверстие и привалил лежавшей у подножия памятника плитой. Еще раз огляделся, примечая место.
Возвращаясь к церкви, он вдруг где-то совсем близко услышал голоса — детские, хрипловатые, сорванные.
«Что это?» — удивился Журба. Впереди открылась большая выложенная из темно-серого камня часовня с массивной чугунной дверью, с мраморным ангелом, печально опустившим крылья. Возле часовни за невысокой оградой расселись невероятно оборванные, замурзанные, худые мальчишки, старшему из них на вид было не больше двенадцати. Он сосредоточенно раскладывал на клочках бумаги по кучкам какую-то снедь, остальные не спускали глаз с его быстро шевелящихся пальцев.
Увидев Журбу, беспризорники, похватав еду, клубком поспешно вкатились в часовню. С глухим стуком захлопнулась за ними тяжелая дверь.
Журба повернулся, пошел к выходу. Было и у него такое: полуголодная жизнь с ночлегом где придется, — жизнь неустроенная, временная, без будущего. Было — но недолго.
И теперь он вдруг ощутил укол вины: ничего не может он сделать для этих мальчишек. Сейчас, немедленно не может…
С кладбища через пустырь Журба прошел на Пушкинскую улицу, пересекавшую весь город.
Пушкинская жила рядом с Салгирной тоже в деловом, суматошном ритме, однако более сдержанно, респектабельно — на Пушкинской и возле нее располагались самые солидные учреждения: городская управа, общество взаимного кредита и отделение международного банка, дворянское и офицерское собрания. Среди нарядных домов выделялись своей подчеркнутой парадностью дворянский театр и несколько легкомысленной вычурностью — варьете «Ша-Нуар». Сияли рекламой витрины кинотеатров «Баян», «Лотос», «Ампир».