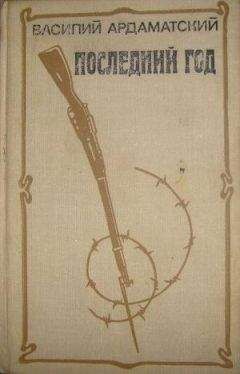— Ваше превосходительство, генерал Жоффр просил вас прочитать письмо сейчас же по вручении.
Это прозвучало почти как приказ, и Алексеев усмехнулся:
— Желание моего французского коллеги для меня, конечно, закон…
Он распечатал письмо, быстро пробежал его глазами и положил на стол.
— Генерал Жоффр, ваше превосходительство, доверил мне передать вам устно, что он намерен между первым и пятнадцатым июля начать на фронте большое наступление и он был бы рад, если бы вы, ваше превосходительство, тоже могли начать наступление не позже пятнадцатого июля, это отнимет у противника возможность переброски подкреплений с одного фронта на другой.
Алексеев долго молчал, рассматривая свои сцепленные на столе руки, думая, до чего же легкомысленны французы даже в генеральской форме. Он мог бы сейчас сказать этому временщику, что Россия начнет наступление даже раньше, но не скажет — он же не француз…
Алексеев поднял наконец на гостя взгляд из-под насупленных бровей.
— На эту просьбу генерала Жоффра я сейчас ничего ответить не могу… — маленькая пауза… — так как подобные решения принимаю не я, а наш государь. Просьба, однако, будет доложена его величеству, а о дальнейшем французская ставка будет уведомлена, как положено, через нашего представителя во Франции генерала Жилинского… — И без паузы вопрос — Вы остановились при вашей военной миссии?
— Да, конечно, — смятенно ответил Вивиани, понимая, что деловая часть аудиенции окончена. — Но в миссии сейчас между-властие — генерал Лагиш дела уже сдал, а новый руководитель миссии генерал Жанен прибудет сюда только через несколько дней.
— Ничего, штат миссии достаточно информирован и введет вас в курс наших дел.
Генерал в упор смотрел на француза, и ему, кажется, доставляла удовольствие его растерянность — пусть знает штатский временщик, что здесь ему не болтливая Франция…
Аудиенция на том закончилась, и Вивиани покинул Ставку. Но когда он вернулся в свою миссию, ему сообщили, что он приглашается вечером на совещание у царя.
Совещание, однако, тоже не принесло ему радости. Николай вел его строго, никому, в том числе и Вивиани, не давал выговориться, хотя по отношению к французу был отменно вежлив и называл его «наш дорогой гость», но и в этом обращении Вивиани не мог не чувствовать, что его принимают здесь явно как лицо неофициальное и к военным делам имеющее только косвенное отношение. Вскоре весь разговор на совещании свелся к обсуждению только одного его вопроса — о том, сколько своих солдат может послать Россия во Францию. Число, названное им сразу же, что называется, повисло в воздухе, и к нему никто не возвращался, речь шла только о том, послать сорок или пятьдесят тысяч. Ничего определенного не было решено и о сроках отправки. Ни о Румынии, ни о Польше вообще не было сказано ни слова. И, только уже прощаясь с Вивиани, царь сказал ему небрежно:
— Что касается вопросов не столько военных, как дипломатических, на их решение необходимо время и специальная подготовка. '
Оба социалиста вернулись в Петроград заметно приунывшие и раздраженные. По поводу своей поездки на заводы Тома сказал послу очень уклончиво:
— Вы правы, положение здесь очень сложное. Главное — ни в чем нет порядка. Вовремя не поступает сырье, низкая квалификация рабочих и многое другое.
— А какое впечатление о настроении рабочих? — спросил посол.
Тома разозлился:
— Как, вы полагаете, мог я это выяснить, разговаривая с помощью переводчика, не знающего трети французских слов?
Посол поздравил Вивиаяи с успехом в отношении посылки русских солдат во Францию и поспешно добавил:
— Дело не в количестве, важна, как вы сами говорили, полезнейшая символика самого факта, надо только, чтобы вокруг этого у нас был поднят большой шум, а в этом лично ваша роль будет очень велика.
Вивиани промолчал. Посол видел, что визитеры могут вернуться домой в плохом настроении, и понимал, что вину за неудачу они могут возложить на него. Надо было до отъезда сделать все, чтобы улучшить их настроение…
И пошли приемы… Роскошный многолюдный завтрак у великой княгини Марии Павловны, где произносились сладкие спичи в адрес Франции и французов… Грандиозный, на четыреста кувертов банкет от имени русской столицы и Думы, которым руководил сам Родзянко, а слово от имени правительства держал министр иностранных дел Сазонов. (Только Палеолог знал, скольких сил ему стоило уговорить на это министра…) Участники банкета спели русский гимн «Боже, царя храни», а затем в зале появился Федор Шаляпин, который запел революционную «Марсельезу», подхваченную всеми гостями. Само соседство этих гимнов было противоестественно, но никто этого будто не заметил, разве что присутствовавшие на банкете министры откровенно правого толка не без испуга посматривали на вдохновенно поющих, а сами только беззвучно шевелили губами.
В этой атмосфере душевного подъема, созданного пением гимнов, Вивиани произнес блистательную речь о нерушимо верной любви Франции к России. Он кончил ее с глазами, полными слез. Воздев руки к небу, он прокричал исступленно:
— Бог видит! Мы вместе будем идти до конца, до того светлого дня, когда попранное врагом право будет отомщено! Мы обязаны этим перед своими умершими, иначе они всуе пожертвовали жизнью! Мы обязаны этим перед грядущими поколениями!
В зале разразилась буря восторга.
В заключение слово было предоставлено лидеру кадетской партии в Думе Маклакову. Тоже, между прочим, оратор не нитками шитый, и наконец-то французские социалисты увидели и услышали русского политического деятеля. Он производит на них великолепное впечатление, более того, они находят в нем какое-то родство с собой. Особенно после его слов о том, что он был и остается закоренелым пацифистом, но это не мешает ему быть страстным сторонником этой войны, которая превратит Францию и Россию в законодателей будущего всего человечества.
Палеолог не ошибся в своих расчетах — после этого банкета его гости воспряли душой и, перебивая друг друга, высказывали ему комплименты и даже назвали его французской душой русской столицы…
После Октябрьской революции, уже находясь в эмиграции, Родзянко в статье «Накануне катастрофы» вспомнит об этом визите, как он выразится, «послов французского красноречия» и о том грандиозном банкете, где исполнялись гимны: «Боже, как все это было странно, обманно и не нужно России в то страшное время. Странно, если не провокационно выглядело то, что Франция сочла нужным в это время делегировать к нам именно социалистов. Обман и самообман владел и всеми нами, и французскими гостями, когда мы вместе с воодушевлением пели царский гимн и «Марсельезу», пытаясь в своих душах соединить несоединимое. А главное — все это было не нужно и бесполезно прежде всего России, но и Франции тоже. Обман и самообман носил и персональный характер. Помню свой разговор с А. Тома без свидетелей. Он в своем самообмане был великолепен. Принимая меня чуть ли не за лидера левых, т. е. за своего единомышленника (неужели он в этот момент не помнил, кем был сам в тот момент?), он с горящими глазами уверял меня, что революция в самом воздухе Европы, и мы должны взяться за руки под ее знаменем, и что-то еще в таком же роде…
Но я виделся с ним и после февральского переворота, когда он снова примчался в Россию. И его глаза так же, как тогда, горели, но говорил он мне нечто совсем другое — что надо думать не о революции, а о победе над Германией, что спасет и Россию и Францию, как бы вы думали от чего? От революции! Я не верил своим глазам и ушам — с такой политической эквилибристикой я в родных пенатах не встречался… Во время этого нашего разговора у стен Думы бушевала сама революция, которая именитому социалисту, оказывается, была так же не нужна, как и России. Так не правы ли были наши левые, называвшие подобных социалистов социал-предателями. И все, все это было мимо России, которой мой собеседник попросту не знал, но хотел свой личный опыт сделать историческим. А все вместе взятое, происходившее тогда, было не чем Иным, как кошмаром бессилия…»
17 мая Тома и Вивиани покинули Петроград, увозя более чем скромные результаты визита и обманные впечатления о русском обществе, воодушевленном верой в победу и охваченном горячей любовью к Франции.
Так была перевернута еще одна пустая страница шестнадцатого года, последнего года русской монархии.
А кровопролитная война продолжалась — генерал Брусилов в эти дни заканчивал последние приготовления своего фронта к большому наступлению. В эти дни он еще не мог знать, что будет коварно обманут Ставкой и верховным главнокомандующим Николаем II и начнет свое наступление без обещанной поддержки других фронтов, в результате чего блистательно начатое наступление, достигнув Карпат, повиснет в воздухе. Австро-венгерская армия понесет тяжелейшее поражение, потеряет до полутора миллионов солдат и множество оружия, но хода войны этот успех не решит, а будет стоить России новой большой крови. Потом, спустя много лет, английский военный историк Лиддел Гарт напишет о брусиловском наступлении: «Россия пожертвовала собой ради своих союзников, и несправедливо забывать, что союзники являются за это неоплатными должниками России…» Но увы, и этот долг союзниками России будет скоро забыт, более того, не пройдет и двух лет, как они пошлют свои войска на север и юг России душить избранную народом Советскую власть. А еще позже Брусилов, после непростого и нескорого раздумья, отдаст себя в распоряжение Красной Армии и верно будет служить в ее рядах до последнего дня своей жизни…