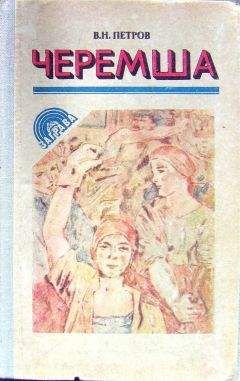— «Учуся книгам благодатного закона, как бы можно было грешную душу очистить от грехов», — сказывал протопоп наш Аввакум, да святится имя его. Какой же вред от сего?
— А такой! — упрямо рубанул рукой Вахрамеев. — Такой, что отвлекаете трудящихся от полнокровной жизни, засоряется индивидуальное сознание. Ладно, ладно, не перечьте, уважаемая мать Авдотья! Я сам из кержацкой семьи и хорошо знаю, что такое религиозный опиум для народа. Родителей своих и по сей день осуждаю за их духовную ограниченность. На сегодня всё. Завтра буду говорить с народом.
— С каким-таким народом?
— Ну, с вашими монашками.
— Побойся бога, председатель! Негоже, не положено в обители. Да и не будут они слушать тебя.
— Будут! — рассмеялся Вахрамеев. — Ещё как будут — под бурные аплодисменты. У вас заутреня в шесть? Вот вместо службы будет моя речь. От имени и по поручению Черемшанского сельсовета депутатов трудящихся. Спокойной ночи, мать Авдотья!
Игуменья, мелко крестясь и сутулясь, вышла из комнаты, в сенцах брезгливо — не за ручку, а ногой — притворила дверь.
Монастырский «митинг» поутру всё-таки состоялся — куда же было деваться старицам и белицам? Правда, только не в моленной (игуменья категорически запретила туда входить Вахрамееву), а прямо на подворье. Слегка по-кавалерийски корячась, Вахрамеев стоял на бревенчатом крылечке моленной и, посмеиваясь, не давал монашкам ходу в храм — так помаленьку они собирались, подходили парами, серые, белолицые, с восковыми свечками в руках. Чёрные платки обрамляли брови и снизу — линию рта, и в эти чёткие одинаковые амбразуры проглядывали одинаково встревоженные, недобро прищуренные глаза.
Как мыши, подумал Вахрамеев, которых потревожил из тёплого амбарного сусека непоседливый кот. Председатель смотрел и подсчитывал подходящих — набралось двадцать три. Пожалуй, всё. Откашлявшись, гаркнул:
— Граждане женщины! Товарищи!
От этих слов серая толпа качнулась, а передние попятились, образовав перед крыльцом солидный полукруг (а может, от табачного перегара, которым дыхнул Вахрамеев, — он успел только что тайком покурить за сараем).
— От имени советской власти я хочу вас призвать покончить с религиозным мракобесием и приобщиться к полезному труду. Наша страна дала женщине полные права, поставила на высокий пьедестал. А вы здесь ютитесь в сырых тёмных избах, живёте впроголодь — пробовал я вчера вашу овсяную похлёбку, это же нищенская еда! У нас в Черемше затевается громадное дело: строится высокогорная плотина, Позарез нужны рабочие руки, в том числе — женские. Бросайте свои молитвы и айда к нам на стройку! Жильё, семьи, дети, кино, радио — всё будет у вас. Полная чаша человеческого счастья. Имеется также электрическое освещение — круглосуточно. Предлагаю обсудить моё предложение. Какие будут вопросы и пожелания? Можно и критику. Валяйте!
Подворье угрюмо безмолвствовало. На выгоне замычала корова, в соседнем сарае брякнули стремена, вроде кто-то седлал коня. «Уж не моего ли Гнедка?» — подумал Вахрамеев. Из-за хребта выглянуло солнце, обрезало-осветило часть монашеской толпы, и тогда сразу отчётливо проявилась откровенная ненависть, злоба во взглядах, обрамлённых выцветшими платками.
— Благословиша дела наши благости твоея, господи! — громко прозвучал голос игуменьи, и Вахрамеев только сейчас заметил, что она стоит рядом, а вернее, чуть сзади него. Когда успела подойти? Или, скорее, вышла из моленной?
Монашки дружно принялись креститься и отбивать поклоны, однако Вахрамеев решил не отступать, да и отступать уже было поздно;
— Внимание, внимание, граждане! Какие дела? Про какие-такие ваши дела вы тут распространяетесь? Настоящие дела там, на стройке, на быстрине жизни, А вы какие полезные дела делаете? Никаких. Стало быть, вы даром хлеб едите. А это в корне неправильно: кто не работает, тот не ест. Учтите: идёт тридцать шестой год — год полной победы социализма по всему фронту!
Председатель нарочно заострял фразы, чтобы вызвать возражения; развернуть дискуссию. А уж тогда он мог выдать по-настоящему: не то что в Черемше, во всём кавалерийском полку, где ещё недавно служил Вахрамеев, не было, не находилось никого, кто смог бы пересилить в споре азартного, изворотливого и находчивого Николая Фомича.
Монашки продолжали молчать. И опять раздался за спиной громкий, со старческой хрипотцой, голос игуменьи Авдотьи:
— Не хлебом единым жив человек.
— Чем же ещё? — Вахрамеев живо обернулся: кажется, наклёвывалась возможность поспорить. Пусть хотя бы только с одной игуменьей. — Чем ещё жив человек?
— Помыслами, верою, благостию своею, — врастяжку сказала мать Авдотья. — И ещё греховностью, потому как мир лежит во зле, торжествуют в нём сыны Каина. А мы, дети Авеля, не признаём дающих и вершащих. Грядёт великий суд божий, и почтение тогда сотворит господь ко всем живущим на земле, к обременённым и страждущим. Старые небеса погибнут сожигаемые, всё растает. Будут небеса новые с землёй новой, и всё земное обновится. Всякое естество человеческое уравняется, перегородки между людьми огонь поест. Установятся новые порядки, перестанет человек ненавидеть человека и наступит царствие божие на земле, царствие мира и радости…
— Стой, стой! — возмущённо закричал Вахрамеев. — Ты мне, бабушка, проповеди не читай! Ты не отвлекайся, а говори по существу. По конкретному вопросу.
Послышался неровный шум, толпа тихо осуждающе загудела, зашевелилась, и в задних рядах медленно выслаивался коридор, узкий просвет. Вахрамеев увидел в этом образовавшемся «пятачке» странную белую фигуру и сперва смутился, не понимая, в чём дело. Потом сообразил: на «митинг», оказывается, явилась преподобная Секлетинья, прямо в саване восстав из своего обжитого долблёного гроба. Она шла, как привидение, неслышно, небыстро и легко — на негнущихся ногах, будто слегка парила над землёй. У старухи был немигающий шалый взгляд, который она вперила в крест, сжатый вытянутой жилистой рукой.
— Чую антихриста, вижу два рога антихристова… — старуха говорила негромко, жарким ненавидящим шёпотом. — Антихрист — это чудище, плоть его смрадна, черно дурна, огнём дышат его рога, из ноздрей его, из ушей пламя смрадное исходит. Чур меня, чур! Сгинь, сатана, исчезни и провались!.
Пока Вахрамеев бестолково глядел на происходящее, старуха приблизилась, неожиданно дико, взвизгнула и огрела оратора увесистым деревянным крестом. От второго удара председатель успел увернуться, но тут в него полетели камни, свечи, какие-то палки. Он метнулся с крыльца вправо: только здесь было свободное узкое пространство; с кавалерийской лихостью перемахнул через тесовый забор и удивлённо-обрадованно замер — на лужайке мирно пасся его осёдланный и стреноженный Гнедко! Осталось лишь растревожить коня, взнуздать и вскочить в седло — что Вахрамеев и сделал с максимальной поспешностью.
…Наступила сушь. Солнце ярилось с утра до вечера, тайга парила, дышала сизым маревом, дурманящим духом вздыбленного буйного разнотравья, сладким тленом моховых грибников и черничных полян. Вяли в логах покосные угодья, чередой и чистотелом зарастали монастырские огороды — старицы вторую неделю исступлённо готовились к «святой гари». Таскали из лесу валежник, тщательно обкладывая им сруб моленного храма, отбеливали на речке холсты для непорочных саванов, готовили толстые восковые свечи. Ждали второго прихода антихриста, с появлением которого и будет возжена «гарь святого искупления».
В ночь на пятницу из обители сбежала Фроська. Собрала все манатки в торбу, даже деревянные чашку с ложкой прихватила, а «псалтырь» демонстративно бросила на пол, в сорный угол близ двери.
Побег обнаружился только утром и никого особенно не удивил. Ни гнева, ни сожаления старицы не выказали: уж больно злоречива да занозиста была девка. Такой в инокинях не век вековать.
Мать-игуменья, узнав про побег, на минуту помрачнела, перекрестясь, только и сказала: «Так-то оно лучшее. Впрочем, на заутренней прочитала-пропела подходящий для случая заговор-молитву: „Святые божие исповедницы Гурие, Самоне и Авиве, яко же есте возвратили девицу погибшую в град свой, во Едес, тако и сию возвратите погибшую Ефросинью. Аврааме, свяжи, Исааче, погоняй, Иакове, путь ей замети и путь ей сотвори тёмен. Во имя отца и сына и святаго духа ныне и присно и во веки веков, аминь!“
В протяжных словах игуменьи не было ни искренности, ни живой горчинки: по правде сказать, Фроська и ей давно опостылела. Прямо из моленной монахини отправились на погост и наскоро соорудили там четвёртый могильный холмик. Справедливость была восстановлена.
Фроська всё это видела. Ещё с ночи сидела она на вершине Листвяжной горы, приглядывалась — куда может быть направлена погоня? Погоню мать-игуменья не отрядила, не нашла нужным, и это Фроську немного обидело. А когда утром черницы копошились над её собственной могилкой, Фроська вовсе рассердилась, нехорошо выругалась и, подняв увесистый камень-голыш, размахнулась, бросила его вниз, в старушечью толпу на погосте.