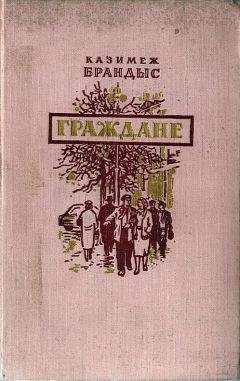Его репортажи будили в Лэнкоте смутный страх: в них билась жизнь, изменчивая и стремительная, полная самых разнообразных и противоречивых явлений, не поддающихся никакому контролю. А Лэнкот больше всего на свете не доверял всему противоречивому, многогранному, изменчивому. Первым тревожным сигналом была для него злосчастная заметка Зброжека о машиностроительном заводе «Искра». Из-за этой заметки у Лэнкота были неприятности, а могло бы кончиться еще хуже. Он старался об этом не вспоминать. Но с тех пор стал задерживать репортерские заметки Зброжека, без конца чиркал, переделывал. Одна только Люцына знала, какого труда это ему стоило. Наконец одну заметку он привел в надлежащий вид. А Зброжек, пробежав ее глазами, только расхохотался и ушел из редакции, хлопнув дверью так, что со стен посыпалась штукатурка.
Лэнкот был терпелив и осторожен, умел выжидать, в особенности тогда, когда время работало на него. Но в данном случае выжидать значило бы потерять почву под ногами. Его все больше сторонились, не доверяли ему. Перемениться? Этого он не мог, да и к тому же был убежден, что поступает правильно. Он не сомневался, что Зброжек рано или поздно споткнется и сломает себе шею. Будет перегибать палку, пока она не ударит его же по голове, — это ясно. С какой стати ему, Лэнкоту, подставлять и свою голову под удар?
— Нам с тобой, Люцына, жизнь доставалась слишком трудно, да, слишком трудно, чтобы теперь ставить ее на карту, — сказал он раз жене. Они в самом деле и до войны натерпелись горьких унижений, и в годы оккупации хлебнули горя и тяжкой нужды. Все, что Лэнкот нажил за последние годы, было добыто ценой бережливости, настойчивости, кропотливого труда. Думая о пройденном им пути, он с почтением склонял перед самим собой круглую лысеющую голову. Свернуть с этого пути? В какую сторону? Нет, для него этот путь был единственный. Он подбадривал себя мыслью, что он прав и достойно несет свой крест. И ждал уже только окончательной гибели, ибо в чудесное спасение не верил. Так обстояло дело, когда в редакции появился Павел Чиж.
Однажды вечером, в конце октября, Лэнкот вернулся домой раньше обычного. Как только он вошел, Люцына сразу заметила, что ему не терпится что-то рассказать ей. Но она, конечно, не стала расспрашивать, зная, что всему свое время. Лэнкот молча поужинал и, когда жена поставила перед ним чай и печенье, откашлялся и сказал:
— Чиж написал очерк о Варшаве.
Люцына в ответ только подняла брови и вздохнула с выражением кротко-снисходительным. О чем тут говорить? Написал и ладно, что с того? Она смотрела на мужа, как мать смотрит на малыша, который пришел из школы и рассказывает о своих детских успехах.
— Возьми еще печенья, — сказала она ласково.
— Я хочу, чтобы ты прочла этот очерк, — продолжал Лэнкот внушительным тоном и достал из портфеля две длинные типографские гранки. Очерк назывался «Мои прогулки по Варшаве».
Люцына читала, а муж внимательно смотрел на нее. Он даже есть перестал и, отодвинув стакан с недопитым чаем, следил исподлобья за выражением ее лица. Увидев через несколько минут скатившуюся по ее щеке мутную слезу, он усмехнулся, довольный и тронутый. Продолжая все так же внимательно и пытливо наблюдать за ней, он видел, как размокшая от слез тушь с начерненных ресниц струйкой стекает по морщине у носа, слышал вздохи Люцыны. Когда она дочитала, оба долго еще не начинали разговора и сидели друг против друга молча.
— Ну как? — спросил, наконец, Лэнкот вполголоса.
Люцына подняла голову и улыбнулась ему. Лэнкот с удивлением заметил, что следы слез и туши на щеках словно молодили ее.
— Это так прекрасно, Здзислав, — прошептала она. — Так прекрасно! Читаешь и все переживаешь вместе с ним.
Лэнкот серьезно кивнул головой. Ему тоже нравился очерк Павла о Варшаве. Подумав, он сказал спокойно:
— Напечатаем его в воскресном номере на первой странице.
4
В понедельник утром Павел помчался в редакцию, не выпив даже чаю. На лестнице он умерил шаг: надо было решить, какое выражение придать лицу. Подумав, он пришел к заключению, что самое лучшее иметь вид непроницаемый, чтобы по лицу «ничего нельзя было заметить. Слегка нахмурил брови, руки заложил в карманы куртки: он полагал, что примерно так держал бы себя его любимый герой, Давыдов из «Поднятой целины», в такой день, как сегодня.
Входя в длинный коридор редакции, он внезапно почувствовал уверенность, что очерк его никому не понравился, а может, его никто и не читал. В редакции было еще тихо. Он заглянул в комнату секретариата, поздоровался с машинисткой, сидевшей к нему спиной, и ретировался раньше, чем она успела обернуться. Потом пошел в свою комнату и сел за стол. Он уже стыдился чувств, которые излил в очерке, ему вдруг стало жаль того волнения, того восторга, с каким он писал его. К чему все это?
В лихорадке творчества он просидел за чертежным столом Антека целую ночь — начал писать вечером, кончил к утру. Когда он, уже на рассвете, окостенев от холода, стал раздеваться, чтобы лечь в постель, руки у него тряслись так, что он не мог расшнуровать башмаки. Он испытывал тогда живое и светлое чувство счастья. Очень хотелось разбудить Антека, который спал, свесив руку с кровати, или выйти на улицу, обежать весь город, заговаривая с каждым прохожим, хотелось смеяться, болтать — все равно о чем… Первый раз он уснул, не вспомнив об Агнешке.
В воскресенье вечером старый Кузьнар принес домой номер «Голоса». И когда Павел вернулся из города, он застал все семейство за столом. Недопитый чай стыл в стаканах, а перед Бронкой лежала газета. При входе Павла воцарилась торжественная тишина. Кузьнар-старший откашлялся, не глядя на него, а Бронка покраснела. Должно быть, она читала вслух очерк Павла и замолчала, увидев автора. Поймав на себе любопытный взгляд Антека, Павел смутился и хотел выйти из комнаты, но Кузьнар указал ему на стул.
— Хорошо ты описал все, Павел, — сказал он, двигая бровями. — С душой! А я и не знал, что ты такой…
Павел усмехнулся и посмотрел на Антека. Тот с серьезным видом кивнул головой, давая понять, что и ему очерк нравится. Все молчали, поглядывая то на Павла, то на газету.
— Прочитай-ка еще раз, Бронка, — сказал, наконец, Кузьнар.
И Бронка начала громко и выразительно читать сначала.
Но на другой день вышли новые номера газет и, когда Павел утром, по дороге в редакцию, просматривал их на скамейке в Саксонском саду, он почувствовал, что его очерк уже затонул в потоке свежих новостей, телеграмм, статей. Переговоры о перемирии на корейском фронте. Приговор коммунистам в США. Тройка каменщиков в Млынове поставила новый рекорд… Производственные обязательства рабочих завода «Бобрек»… А воскресный номер «Голоса» люди сегодня пустят на завертку, и, быть может, очерк Павла Чижа кто-нибудь запихает в носок чересчур свободного башмака. Время не остановилось на воскресенье.
Павел сидел, согнувшись, за своим столом в редакции и уныло думал: как наивно было воображать, что его очерк обойдет весь город! У города каждый день тысячи новых дел поважнее, чем прогулки Павла Чижа по Варшаве.
В редакции между тем уже начиналась обычная суета. Павел слышал за дверью знакомые ее отголоски, разговоры, беготню, телефонные звонки и стук пишущих машинок в соседних комнатах. Потом ему показалось, что кто-то произнес его фамилию, и, раньше чем он успел встать из-за стола, в комнату вошел Зброжек.
— Поздравляю вас с хорошим началом, — сказал он, пожимая ему руку.
Павел стоял растерянный и удивленный. Они с Зброжеком до сих пор ни разу не разговаривали, он даже не был уверен, что Зброжек знает его фамилию. И сейчас он всматривался в этого невысокого, подвижного шатена с кудрявой копной волос, пока тот, не дождавшись ответа, расхаживал по комнате, от окна к двери и обратно.
— Да, так надо писать, — сказал, наконец, Зброжек. — Знаете, я ваш очерк прочел два раза. Вы пишете искренно, это сразу чувствуется.
Он остановился, и его некрасивое лицо вдруг посветлело от улыбки. Но даже сейчас, когда он улыбался, в глазах читалась печаль и словно какая-то забота. «Похож на калмыка», — подумал Павел. Он был благодарен Зброжеку за его слова.
— Я состряпал это за одну ночь, — сказал он смеясь, — и не думал, что Лэнкот так сразу напечатает.
Зброжек присел на край стола. Вертя в руках крышку чернильницы, он стал расспрашивать Павла о его планах. Ответы слушал внимательно, но, казалось, думал в это время о чем-то другом. Руки у него были небольшие, сильные, с коротко обрезанными, как у школьника, ногтями. Он был лет на пять старше Павла, но казался гораздо взрослее — быть может, благодаря своему крепкому сложению. Они поговорили немного об очерке Павла и в общем сошлись во мнениях. Но Павлу как-то трудно было разговаривать с Зброжеком. Сам не зная почему, он обрывал фразы на полуслове — как будто боялся чем-нибудь задеть Зброжека или вооружить его против себя. Трудно сказать, чем это чувство было вызвано. Лицо Зброжека все время менялось, отражая какие-то мысли, впечатления, о которых он не говорил вслух. Он не казался замкнутым или неискренним, но Павел не мог отделаться от подозрения, что, беседуя с ним, Зброжек в то же время ведет мысленно какой-то другой разговор и всецело им поглощен. Только раза два его глаза встретились с глазами Павла — и Павел почувствовал, что робеет. Странное выражение было у этих небольших карих глаз с реденькими и короткими ресницами. Странное и волнующее. Была в них угрюмая проницательность и смелость и вместе с тем задумчивость человека, занятого своими мыслями, и тень какой-то мучительной, настороженной тревоги.