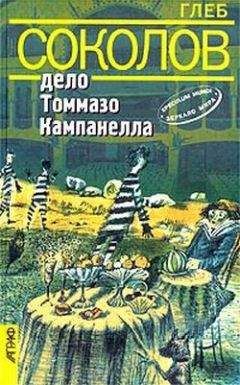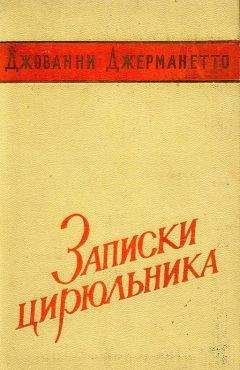Кроме конфетти, кидались пудрой. Ее запах, особенно если пудра хорошая, пьяняще разливался в вечернем воздухе, и случалось, девушка проливала слезы, если пудра попадала в глаза. Так проходили целые часы, сгущалась ночь, но веселье не утихало: по-прежнему сыпалось конфетти вперемешку с пудрой, не умолкал девичий смех и мы, мальчишки, торчали на тротуарах, готовые к новым проделкам, — мы ловили момент, когда девушка зажмурит глаза, чтобы уберечься от пудры, и целовали ее в шею, в губы… С тех пор минуло много лет. Кое-кто по-прежнему развлекается, но сегодня развлекаться — значит тратить большие деньги, а тогда хватало старой тряпки, бабушкиного или маминого платья, тетиного лифчика или дедушкиного френча — словом, самой малости. Теперь же все стоит денег, и улыбаться стало куда накладней.
Забежал в Станду. Чем больше вижу тут хороших товаров, тем тоскливей на душе. Входишь радостный, а выходишь обалдевший и злой. Все здесь есть: тысячи нужных вещей, вкусные свежие продукты. Да, человек изобрел цветное телевидение, автомобили, которые носятся со скоростью 300 км в час, и еще полно всего, что нет нужды перечислять, но не прокопал ни ручейка через иссыхающие на солнцепеке поля, тонущие в стрекоте цикад. Интересно, чем стрекочут цикады…
Празднуем пасху за городом, под островерхой крышей трулло. В этой местности, между Монополи и Кастелланой, у некоторых трулли по девять острых башенок. Мы в гостях у друзей. Взрослые расселись за столом, дети возятся на полу с крупными муравьями, похожими на броневики. Помню, в детстве меня как магнитом тянуло к муравьям. Я мог часами валяться на земле, играя с ними — брал их, пускал по руке. Они всё старались укусить меня, и я в конце концов позволял им тяпнуть меня за ноготь. Но, потеряв терпение, давил одного из них пальцами, и тогда в ноздри сразу ударял терпкий, едкий запах, будто от лекарства.
Сегодня залег спать много раньше обычного, около восьми. Голова гудит, ноги свинцовые. На улице по-прежнему жара. Скамейки приобретают все больший блеск под задницами кумушек и дядюшек, которым болтать не наболтаться. Чувствую, судачат и обо мне: мужик, говорят, хороший, только со странностями, и даже очень. Тихонько засыпаю, а там всё болтают. То хвалят, то ругают, что-то вроде вечерней серенады. А мне все равно. Я сегодня с утра как следует наломался на заводе, в этой огненной пасти.
Напоролся на гвоздь у станка, и мне сделали противостолбнячный укол. Фельдшер шприцем вытягивает жидкость из пузырька, а я вспоминаю, как в таких пузырьках таскал у бабушки наливку, которую та ревниво прятала в буфет. Потом тянул наливку глоточками и разбавлял водой, пока она не становилась вовсе бесцветной, лишь запах сохранялся: лимонный, банановый, апельсиновый. Потом сажал в пузырьки ящериц, за которыми часами гонялся босой, прыгая как заяц по красным, раскаленным комьям земли. Хрупких, милых и тонких, словно стебельки, ящерок. Они пытались выбраться, карабкались вверх по стеклу, но соскальзывали и падали обратно, в испуге показывая острый как игла язычок. Зеленую пробку мы использовали в качестве ластика, она действительно отлично годилась для этой цели. Дети богатых приносили с собой большие, длинные, как авианосцы, разноцветные стиральные резинки. Мы же, нищее отребье, пользовались резиновыми пробками от пузырьков из-под пенициллина.
Сегодня днем в цех ворвался воробей и принялся отчаянно летать от стены к стене. Он то проносился над головами, то как сумасшедший метался под потолком в поисках выхода. Несколько рабочих сжалились над ним и открыли ворота, но воробей не замечал этого, продолжая носиться по цеху вдоль и поперек, до смерти напуганный оглушительным грохотом и криками людей. Сюда легко попасть, но выбраться — целая проблема, даже нам самим ничего не стоит потерять себя в этом стальном лабиринте, среди кнопок и манометров.
Сегодня я какой-то просветленный, сам не пойму отчего. В детство впадаю, должно быть. Воздух у нас в цехе (если вообще можно говорить о воздухе) тяжелый, и я безостановочно чихаю. Шлифовальный диск передвигается туда и обратно, словно барка. Заложив очередную деталь, высвобождаю руки, успеваю вытащить из кармана календарь и сосчитать, сколько дней осталось до следующих праздников. Тем временем до конца работы остается час. Побросать бы к черту все эти одинаковые заготовки, эти рычажки, которые нужно то и дело вертеть на одни и те же 180 градусов, и тогда магнит плотно прижимает к себе деталь. Сколько этих одинаковых деталей! Кремниевый диск вгрызается в металл, и сыплются длинные красноватые искры.
Разнорабочий, в чьи обязанности входит убирать стружки и опилки, приближается с метлой к моему станку. Он глядит на меня с восхищением и даже завистью, так как считает меня привилегированным рабочим. Это оттого, что ни ИКП, ни профсоюз не втолковали ему, что мы, рабочие, все как один обманутые. Потом в его глазах появляется ирония, он произносит: «Нас роднит единая утроба, но не единые взгляды» — и показывает мне мозолистые руки, жесткие как камни. Закуривает, слегка улыбается, вновь берется за метлу и, откашливаясь, уходит.
На сегодня объявлена двухчасовая забастовка по всей области. Забастовки не прекращаются: двухчасовые, трехчасовые — самая настоящая забастовочная эпидемия, в котел которой бросают кто что может: борьбу за индустриальное преобразование, борьбу за трудоустройство, за транспорт, за сельское хозяйство и т. д. — словом, получается сборная солянка, и чем больше лозунгов, тем удачнее забастовка. Мероприятия эти довольно двусмысленны, потому что их организаторам и участникам не хватает ни последовательности, ни смелости открыто заявить о главной цели забастовки. Правительство недееспособно, его необходимо убрать, и потому бастовать следует неопределенное время — вплоть до полного и безжалостного свержения такого правительства.
На мелких забастовках мы напрасно потеряли миллионы рабочих часов. Если сложить вместе всю их ударную мощь, можно было бы силой склонить правительство к осуществлению более справедливой, человечной политики. Люди не каменные, и в один прекрасный день их терпению придет конец. Постараемся же не быть лицемерами в тот день, когда оно действительно истощится. Люди устали слушать одни обещания.
Затачиваю резец. Этот предназначенный для работы с алюминием инструмент страшно капризен, и нужно в точности выдержать все углы: угол режущей кромки, угол заточки… Обработку приходится выполнять вручную. Грань шлифовального круга стесана, и к канавке стружколома не подберешься. Нажимаю больше, чем следует, резец неожиданно вырывается, и рука попадает на шлифовальный круг. Результат: чуть не половину указательного пальца отхватило, чудом не задета кость. Честно говоря, я должен был работать в перчатках, но пользоваться ими не всегда возможно, потому что рука в перчатке, особенно когда требуется точная работа, теряет чувствительность. Раны от шлифовального круга хуже других: долго не затягиваются, ведь круг не режет, а истирает ткань.
Карабинеры еще не поняли, что поддерживают порядок, угодный богачам, не догадались, что столь усердно защищают не принадлежащее им самим достояние. Карабинерам бы присоединиться к рабочим да сообща и раздавить хозяина — этого паука с длинными черными лапами.
Десятки и сотни заводов продолжают закрываться. Общество больше не знает, как поступать с рабочими: эксплуатировать их дальше или выставлять на улицу. Заводы и фабрики прогорают; мы трудимся до седьмого пота, вкалываем на сдельщине, расходуем у станков свое здоровье, калечимся, сходим с ума, стареем, а они все равно прогорают. И это несмотря на то, что из нас выжимают все соки, что мы работаем во вредных условиях, что большую часть своего существования рабочий проводит у станка. В то же время политическое и экономическое состояние страны становится все более безнадежным, и весьма вероятно, в июне пройдут досрочные выборы, чтобы сопоставить силы. Опять дерьмо сопоставят с дерьмом, как обычно.
Сегодня праздничный день. Решаю съездить в Модуньо навестить родителей. Едем на машине в объезд Адельфии по дороге, тянущейся вдоль бесконечных виноградников. Позади остаются две деревенские колокольни — две, потому что Адельфия образована из двух маленьких слившихся деревень: Каннето и Монтроне. По обочинам дороги — маки и еще какие-то белые цветы. В этом году много травы, потому что весна выдалась дождливая. Проехали Битритто; теперь до Модуньо рукой подать — пять километров. Отца дома нет; мать готовит цикорий. В кухне пахнет керосином. Отец на работе: он теперь сторожем на фабрике, производящей люстры, торшеры. В шестьдесят пять лет нашел себе наконец подходящее место и неплохое жалованье для своего возраста: 140 тысяч лир, — пенсии-то не хватает. Оставив жену с детьми в доме, отправляюсь гулять по главной улице. Городской сквер навевает массу воспоминаний о прогулках и приключениях молодости, о том, как отчаянно гонялся здесь за одной девушкой, все раздумывал, как бы к ней подступиться, что сказать и не лучше ли написать письмо. Сегодня все гораздо легче, чем тогда: существуют дискотеки, клубы, наконец, все ходят в школу, и встречаться совсем нетрудно. В мое время девушки выходили из дому лишь по воскресеньям. На аллее встречаю старых друзей — останавливаемся поболтать. В маленьком баре, где в углу громоздятся связанные цепью стулья, вижу старый и наполовину заржавевший музыкальный автомат. Сколько песен слушано-переслушано из этого автомата — и Битлз, и Роллинг-Стоунз, — пока хозяин неотрывно следил за нами сквозь грязное окошко в глубине бара, чтобы не сломали машину.