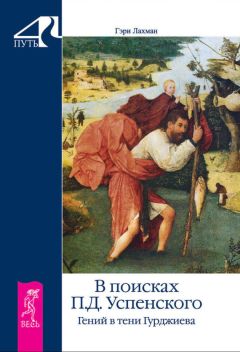Два дня гостил на хуторе Голубовича поручик Никитенко. Он много шутил, восторгался «Энеидой», просил Ивана Петровича почитать что-нибудь по памяти.
Прощаясь, поручик пригласил Котляревского по приезде в Полтаву обязательно посетить их полк, его товарищей — офицеры будут рады поэту.
— И вообще, господин учитель, смотрю я на вас, на вашу выправку и думаю: вам бы офицером быть, да еще гусаром, а не учителем. Может, надумаете, то милости просим к нам в полк, — сказал полушутливо, полусерьезно Никитенко, садясь в возок.
— Нашли военного, — усмехнулся Котляревский. — Не шутите, сударь, а то обижусь... Прошу вас по прибытии передать матушке моей письмо и деньги, которые посылаю. А за приглашение — спасибо!
— Не беспокойтесь, все исполню.
Никитенко уехал. Но еще долго слышался колокольчик. И звон этот не таял, стоял в ушах и тогда, когда Иван вернулся в дом, в классную комнату, где его ожидали Саша и Костя.
Не подозревал Никитенко, что его пожелания сбудутся, и очень скоро. Меньше всего об этом думал и Котляревский.
Как-то поздно вечером откуда-то сверху донеслось глухое гоготанье. Широко распахнув окно, Иван увидел врезанный в небо живой темный клин. Он двигался довольно медленно, чуть повыше тополей, время от времени оглашая окрестности приветственными кликами.
— Добрый вечер, гусоньки! — позвал он, словно пернатые гости, возвращавшиеся из теплых стран в родные гнездовья, могли его услышать.
Долго стоял у окна, провожая взглядом исчезающих в далекой дымке добрых вестников весны. Свежий ветер приятно остужал открытую грудь, путал волосы, бросал их в лицо, забравшись в комнату, осторожно шевелил листки раскрытой книги.
Котляревскому шла двадцать седьмая весна, а он чувствовал себя юношей, только-только вступающим в жизнь, и с тем большим интересом, вдруг оглянувшись на прожитое, увидел, что более двух лет, проведенных в доме Голубовича, не прошли напрасно. За это время он кое-что написал, и, если бы Иоанн Станиславский каким-то чудом встал и посмотрел на все, что он создал, может быть, сказал бы: «Для начала, сыне мой, не так уж и плохо, но только для начала...» Скуповат был учитель на похвальное слово, но коль он говорил «добро», считай — заслуженно. Иоанн обязательно добавил бы: «Думай, сыне, о будущем!» Он всегда был прав, отец Иоанн.
А что же сулит ему будущее? Никому еще не удавалось заглянуть в свой завтрашний день, но Иван твердо знает: впереди у него — вся жизнь и много, что бы ни случилось, работы.
А пока — как только закончатся занятия — он сразу же ускачет в Полтаву, проведает матушку, побудет с ней как можно дольше, вдохнет воздуха отцовской хаты и словно невзначай спросит: «А не хотела бы ты, матушка, чтобы в хате нашей поселилась еще одна, особа, ну вроде дочки твоей?» Мать ждет этого и, конечно, благословит сына, но спросит: «А будет ли она, сын мой, уважать тебя?» Ох, мать, великая душа твоя, сына своего ты любишь, но ведь он не провидец... Побродит потом по знакомым улочкам, посмотрит хотя бы издали на альма-матер, поклонится могиле учителя и обязательно отыщет Никитенко. Грешно обойти его, не пригласить к себе. Поручик, нечаянный приятель, не подозревает, как много значил его нежданный визит на хутор. Если бы не он, возможно, и до сих пор Иван не имел бы понятия, о судьбе своего детища. Не знал бы, что «Энеиду» читают и даже ищут, повсеместно находятся доброхоты-переписчики, и, благодаря им, она ходит между людьми, путешествует по бесконечным трактам империи, ночует в избах для проезжающих, помогает коротать бессонные ночи в кельях монахам и послушникам, веселит сердца невольников, которые непонятно каким образом узнают о ней и, несмотря на неграмотность свою, передают поэму из уст в уста.
Это радостно и тревожно: а вдруг сие увлечение лишь дань моде, а пройдет какое-то время — и все минет, забудется, как и многое другое, что современникам казалось вечным и нерушимым? Разве не известны подобные примеры? Их сколько угодно.
Слава эфемерна, капризна, как заносчивая, слишком мнящая о себе барышня: сегодня, неожиданно посетив тебя, пригреет, обласкает и даже обнадежит, а минет день, два — и, внезапно охладев, уйдет, не простившись, исчезнет навсегда. Но бог с ней, со славой! Не ради этой капризной панночки он работал, не зная ни дня ни ночи. Было кое-что важнее воздушного призрака.
И вообще — достаточно об этом. Идет весна. А это прекрасно.
Уже схлынули паводковые воды в Супое и открылись изумрудные луга, лес оживает, вот-вот оденется в шумный зеленый наряд. Завтра — воскресенье, целый день свободный, и можно с утра до вечера бродить по лугам и словно случайно встретиться там с Машей. Она расскажет о поездке в Драбов, еще что-нибудь. А потом он откроется ей и спросит, что думает она о своем сумасбродном учителе? Достоин ли он человеческого счастья? Только бы решиться. Раньше уже не однажды пытался заговорить с ней о самом заветном и... обращал все в шутку, мешала излишняя деликатность, сковывала непонятная робость, терял дар речи и вызывал лишь насмешку. «А еще поэт», — говорил ее взгляд. «Конечно, ты права. Но разве я виноват? Будь ты не так красива, я был бы смелее. Но ты лучше всех на свете, и я боюсь услышать одно-единственное слово, которое не оставит никакой надежды. Тогда всему конец...»
Однако дальше так продолжаться не может. Завтра все решится, и пусть катится ко всем чертям этот старый золотоношский хрыч, снова зачастивший на хутор. Маша не желает его ухаживаний, его подарков и страдает, что, боясь обидеть дядюшку, не в силах прямо отвергнуть эти несносные ухаживанья. А они все настойчивее.
Итак — завтра на хуторском выгоне соберутся девчата и хлопцы, будет музыка, игры и танцы. Маша обязательно отпросится у дядюшки, и он, незадачливый воздыхатель, будет там. Припасена и одежда: свитка, шапка, сапоги, шаровары и красный, почти в две сажени длины, пояс.
Кончится вечер — и они пойдут вместе, их никто не увидит на берегу.
А пока — за работу. В работе легче и быстрее бежит время...
Окно оставалось открытым, свежий воздух заливал комнату, н, хотя было уже довольно свежо, Иван не чувствовал прохлады. Придвинув к себе книгу, читал, заслонив от дуновений ветра подсвечник раскрытым томом «Телемахиды».
На сельском выгоне, под старыми вербами, сначала под дуду плясали «третьяка». Сыновья деда Савки, плечистые и крепкие, как дубки, — первые хуторские танцоры — такие откалывали коленца, танцевали так дружно и с таким увлечением, что никто не мог устоять на месте, и все вскоре втянулись в круг.
Когда же Нечипор — знаменитый мастер на дуде — запросил отдыха, в дело вступил бандурист — сам дед Савка. Покашляв для порядка и подкрутив седой ус, ударил по струнам и принялся подпевать. Это была «горлица», которую танцевали девушки. Они собрались в кружок, развернулись и пошли выписывать удивительные узоры. Парубки, стоявшие в стороне, чтобы не мешать танцующим, казались безразличными, ничего не замечали, но каждый ненароком, будто случайно, кидал короткий, весьма выразительный взгляд на чернобровую Ганну или белявенькую Фроську, что первые шли по кругу, гордые, красивые, в запасках и корсетках, с лентами в косах, в красных сапожках. Кто раз посмотрел на них, тот, пожалуй, не мог уже оторвать взгляда и следил за каждым их движением, полным грации, естественности и красоты.
Затихла бандура — и пастух Семен Струк на сопилке заиграл «зуба». Тут уже хлопцы стали хозяевами утрамбованного точка и так заработали каблуками, что девчата перестали шушукаться и без снисходительных улыбок наблюдали за танцем, а кое-кто и вскрикивал, видя, как стремительно, на всем ходу в воздухе переворачивается младший сын деда Савки — чернобровый Гордей.
Пришла и троистая музыка: скрипка, басоль и бубен. И снова за «санжаркой» следовал «журавель», танец сменялся танцем, весьма отличным от предыдущих.
Шумел сельский выгон под старыми вербами. Стонала земля под усердными сапожками, аккуратными постоликами и чеботами.
Зачарованная музыкой, плыла над хутором весенняя ночь. В лунном сиянии, будто нарисованные, застыли мазанки, разбросанные на пригорках и над Сулоем, темнели сады. В предчувствии теплых дней и весеннего дождя, тянули деревья к звездному небу оголенные, но уже полные соков ветви.
Хутор отдыхал после трудового дня. А здесь, на выгоне, на старых колодках, что под тынами лежат испокон веку, утомленные от танцев, пели девчата, хлопцы стояли, сбившись в круг, и подпевали. Некоторые из них прибежали сюда, не успев ополоснуть лицо, не поев, едва отряхнув полевую пыль. Они будут сидеть здесь до вторых петухов, потом разойдутся по мазанкам, чтобы рано встать и снова бежать в поле, на барщину, пахать господское поле, а потом уже и свой клочок возле хаты. Но что бы там ни было, а как вечер, так и тянет молодых на старые колодки. Разве останешься дома, если бубен, словно живой, вырывается из рук чубатого хлопца и просит, кличет к себе, а ноги сами носятся по точку, вяжут, плетут круги и полукружья?