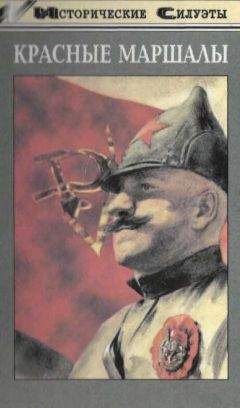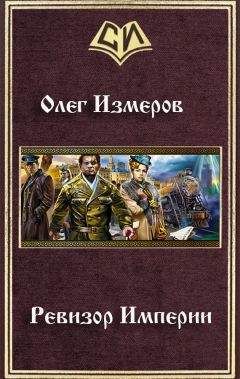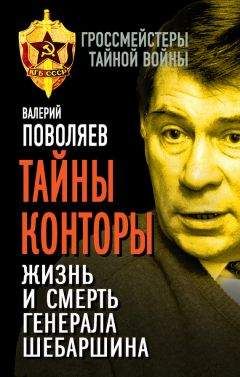Золота досталось много: сорок пульманов — это сорок пульманов. А если быть точнее, то золотой запас, взятый в Казани, тянул на 657 миллионов рублей. Это не просто много — а очень много.
У Каппеля имелись сведения о том, что Ленин принял решение перевезти золотой запас из Казани в более безопасное место, более того — лично утвердил состав группы, которая должна была заниматься этим делом — возглавил ее старый член партии Андрушкевич. Входили в группу, кроме Андрушкевича, еще пять человек: Добринскнй, Богданович, Наконечный, Леонов, Измайлов.
Группа эта прибыла в Казань 28 июля 1918 года, решила погрузить золотой запас на пароходы и отправить его по Волге в Нижний Новгород, а оттуда перевезти на Оку, Эвакуация золота началась 5 августа, но ее сорвал Каппель своей стремительной атакой: на пристани появилась целая рота комучевцев, и Андрушкевич понял, что золото он не спасет, погибнет вместе с ним, и отступил.
Впрочем, он все-таки успел вывезти из Казани на четырех автомобилях сто ящиков золота. Помог казанский министр финансов Бочков — если бы не он, запас, попавший в руки к Каппелю, потянул бы не на 657 миллионов рублей, а на сумму гораздо большую.
Когда казанское золото очутилось уже в Сибири, в распоряжении правительства Колчака, то в Омске министерством финансов была обнародована другая цифра — сведения, между прочим, официальные, подтвержденные подписью министра. Вот текст, опубликованный в газете в ноябре 1918 года:
«Всего запасов из Казани вывезено золота:
а) в русской монете на 523 458 484 руб. 42 коп.
б) в иностранной валюте на 38 065 322 руб. 57 коп.
в) в слитках на 90 012 027руб. 65 коп.
Всего: 651 535 834 руб. 64 коп.»
Произошла усушка с утруской на пять с половиной миллионов золотых рублей. Куда подевались эти деньги — можно только строить предположения. Каппель к их исчезновению не имеет никакого отношения.
— Всякое золото обладает отрицательным зарядом, колдовской силой, способной погубить человека, и далеко не одного, она способна погубить целую армию, — сказал он, потер руки, словно ему было холодно, хотя в Казани и вообще на Волге стояла жаркая погода. — Когда началась Великая война, господин Путилов, владелец девяти оружейных заводов, очень неглупый человек, сказал, что именно золото приведет Россию к революции, а революция, в свою очередь, погубит Россию. От буржуазной России мы незамедлительно перейдем к России рабочей, а от нее — к России крестьянской. Круг, таким образом, будет замкнут. Начнется анархия, распад, пугачевщина... Дословность, точность пересказа я не гарантирую, но мысль господина Путилова я передаю верно. Он боялся анархии, крови, разнузданности, бессмысленности, беспорядков, жестокости толпы... Я этого тоже очень боюсь.
— Этого все боятся, Владимир Оскарович. — Синюков прижал руки к кителю.
Каппель глянул в окно, по лицу его проползла озабоченная тень, он неожиданно прицокнул языком:
— Эх, какое дорогое время мы теряем! Нам бы сейчас двинуться на штурм Нижнего... А мы тут сидим, протертыми котлетками балуемся.
— Я на кухню велел подать живого осетра, — сказал Синюков, — несколько штук всплыло — оглушило снарядом. Здоровенные боровы. Голова едва в чугунок влезает. — Синюков развел руки в стороны, жест был красноречивый.
Каппель невольно позавидовал полковнику — никаких терзаний у человека. Такие люди долго живут, прекрасно чувствуют себя в любой обстановке, они бывают храбры в бою, любят крепкое вино и не держат зла... Каппель же был слеплен из другого теста. Хотя в храбрости ему тоже нельзя было отказать — в Великой войне он был дважды ранен, награжден боевыми орденами и умом, острым, способным все схватывать на лету, не был обделен... Недаром он окончил одно из самых блестящих учебных заведений России, по-настоящему аристократических — Академию Генерального штаба.
Но он бы никогда не смог с такой легкостью прийти к командиру и сказать ему об осетре, поданном на кухню, — сделал бы то же самое, только не стал бы об этом сообщать. Он не мог — не хватало пороха — поведать какую-нибудь плоскую, хотя и веселую байку или запросто пожаловаться на несварение желудка, а Синюков все это может... Характер у Синюкова легкий, общительный — завидный характер.
— Бог даст, будем наступать и на Нижний, — запоздало проговорил Синюков.
— Но время, время, время! — не удержавшись, воскликнул Каппель. — Мы теряем дорогое время!
Глаза у него неожиданно сделались влажными, размягченными, он отошел от окна к столу, на котором была расстелена карта, и склонился над ней.
А тем временем с отступившими красными частями разбирался сам Троцкий.
Он, сутулый, худой, едкий, с желтым, странно истончившимся лицом, подслеповатый, с крикливо-резким голосом, приехал в уцелевший латышский полк — как мы знаем, одни полк был уничтожен полностью, второй отступил и потому уцелел. Сопровождали Троцкого четыре грузовика охраны с дюжими, вооруженными пулеметами стрелками.
К Троцкому подскочил дежурный по штабу в новенькой, перетянутой желтыми кавалерийскими ремнями форме, вскинул руку к козырьку, пытаясь доложить, но Троцкий резко оборвал его:
— Где командир полка?
— Находится в госпитале. Был ранен в ночном бою в Казани.
— Ранен... — Троцкий издевательски хмыкнул, измерил дежурного с головы до ног желчным взглядом, еще раз хмыкнул. — И кто же, позвольте полюбопытствовать, в таком разе командует полком?
— Члены полкового комитета.
— Построить полк! — приказал Троцкий.
Полк был построен на берегу Волги. Внизу, под крутым берегом, плескалась рябоватая теплая вода, насквозь пронизанная рыжими солнечными лучами, рождающими в душе ощущение слепого детского восторга; было видно, как крупные рыбины выплывают на отмель, чтобы ухватить губою солнечный лучик, поиграться с ним, пощекотать себе пузо об осклизлые камни.
Троцкий стоял на берегу, заложив руки за спину, и смотрел на рыб — думал о чем-то своем. Может быть, о том, что Волга по существу — большой аквариум, а может быть, о чем-то другом. Ссутулился он так, что стоявшим рядом людям показалось: а Троцкнй-то горбат.
Наконец-то он повернулся, увидел выстроенный полк и произнес резко, с каркающими вороньими нотками в голосе:
— Так!
Неторопливо прошелся вдоль строя, продолжая держать руки за спиной как сугубо штатский человек. Остановился, двинулся в обратном направлении — маленький, истощенный, хворый человек, которого каждый из этих рослых латышей мог бы придавить одним ногтем... Мог бы, да не дано — позади Троцкого, за спиной его, стояла могучая охрана с маузерами и пулеметами. Эти ребята не дадут даже подойти к Троцкому, уложат при первом же решительном движении.
И вот Троцкий остановился.
— Вы опозорили революцию, — выкрикнул он, — опозорили честь и имя Красной Армии, вы отступили. Вам надо было всем лечь, как это произошло с первым латышским полком, и тогда ваши имена были бы вписаны в историю золотыми буквами. Но вы этого не сделали, и имена ваши покрыл позор. Что делать с трусами, шкурниками и предателями? — спросил он и, отвечая, процитировал сам себя, строки из своего приказа: — «Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули» — трусов, шкурников и предателей расстреливают. — Троцкий повысил голос: — Члены полкового комитета, выйти из строя!
Окаменевший, словно скованный ужасом строй шелохнулся, раздвигаясь, и из него вышли три человека. Троцкий не знал их фамилий, да ему и не надо было их знать, ему надо было совершить пропагандистский акт, о котором заговорили бы на всех фронтах, а кто станет жертвой акта — не имеет никакого значения.
Он оглядел членов полкового комитета. Все трое были коммунистами. Невысокий, плечистый, с лицом, на котором красным глянцем блестел старый шрам, рыбак; длинный, похожий на жердь, рабочий автомобильного завода из Риги, у которого нервно подергивалась нижняя губа, и обычный крестьянский парень с тяжелыми, набухшими болью, словно ошпаренными руками. Подумав немного, Троцкий хотел было спросить у них фамилии и обыграть это в своей речи, но потом решил: «Не надо, это только затянет процедуру», и выкрикнул:
— Эти трое сейчас рассчитаются за весь полк, за всех... Рассчитаются за вашу трусость! — Он поднял руку, зло блеснул очками и разрубил воздух каким-то укороченным кривым движением, затем проговорил скрипуче, стиснув зубы: — Всех — расстрелять!
Охрана, замершая было, зашевелилась, к членам полкового комитета подскочили сразу несколько человек, ухватили под микитки и поволокли к обрыву. Высокий рабочий — один из троих, — сопротивляясь, что- то выкрикнул на ходу, но его ударили по затылку рукояткой маузера, он стих, затряс головой, разом делаясь покорным.
Строй латышей дрогнул, и тогда из охраны проворно выдвинулись трое пулеметчиков с тучными «люськами», вторые номера встали рядом с первыми, держа наготове запасные диски-тарелки.