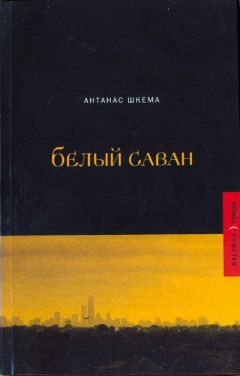— Но,Joe…
— Joe? Он начал с Фауста, а закончит ночным баром. Еще хорошо, если это будет приличный бар. Ты обратил внимание на тембр его голоса, когда он распевает в уборной? Потрясающая сипловатость. Есть надежда.
— Порядок, Stanley. Ты меня прости, но почему такое суровое решение?
— Дескать, почему хочу покончить с собой? Я ни во что не верю. И ничего не могу.
— Ты просто неврастеник.
— Спасибо. Я же говорил, мы с тобой двойники.
— Нас даже трое.
— А кто третий?
— Женщина, которая приставала с орехами.
Stanley хохочет. Молодо, звонко, посверкивая белыми зубами. «Этот город совсем сошел с ума», — думает Антанас Гаршва.
Писатели тоже покидают кафетерий. Кафка засовывает руки в карманы своего длинного пальто и, согнувшись, выходит. Помахивая подсолнухом, шагает к двери Oscar Wilde. Еще раз бросает взгляд в тарелку старичка Baudelaire. Она пуста. Нет больше и самого Baudelaire. Застенчиво улыбаясь, Rimbaud берет под руку по-девичьи румяную Emily,теперь он легко несет свой груз. Мрачный, выкатывается следом Verlaine, ему так и не налили в чашку кофе, его гениальность недооценили. Гордо покидает кафетерий Ezra Pound. Он как раз не обделен вниманием, его оценили. Интересно, в какой больнице лечится Ezra Pound? Гитлеровским жестом приветствует всех Nietzsche, вскинув руку, он выкрикивает «Ариадна, я люблю тебя!», затем исчезает за дверью, которую распахивает для него Женя. И медленно пятится назад мать Гаршвы, в ее глазах затухает тот прощальный взгляд.
— Только не прыгай в окно, Stanley. Не надо. Не стоит имитировать персонаж Thomas Wolfe. А тебе известно, как умер Thomas Wolfe? В страшном крике. Ему отсекли макушку, но уже не спасли. Перед операцией его остригли. У него были темные, красивые волосы, по рассказам сестры.
Stanley словно не слышит Гаршву, твердит свое.
— А знаешь, почему тяну? Юность меня останавливает. Моя собственная. Я живу на В Avenue. На четвертом этаже. Ступеньки искрошены. Комнаты темные. В уборной воду толком не спустить, по нескольку раз дергаешь ручку. Мать что-то там лопочет по-польски. Отец дрыхнет и когда пьяный, и когда трезвый. А знаешь, как весело бывало в выходные? Когда возвращался с уроков музыки? Да ничего ты не знаешь! Ту девчонку я водил в одну дыру на углу. Там мы ели мороженое. Мрачная такая дыра. Настоящий рай. В ушах звучит Моцарт. Dziękuję. Но в один прекрасный день я выпрыгну. Плевать я хотел на рай. И на эту постель. Пускай клерк в ней спит.
— Ты не прыгнешь.
— Так считаешь?
— Ты хочешь жить и потому разглагольствуешь о смерти.
— Плохо ты знаешь Америку, Tony. Мы с тобой двойники, которые только-только встретились. И я не стану взвешивать все «за» и «против». Я не чета вам, европейцам.
Stanley бросает взгляд на часы.
— Пора идти, — говорит он. Оба поднимаются.
Идут к двери.
А моя юность могла бы меня спасти? Если бы писал о ней стихи, наверное, сказал бы то же самое, что и большинство. Это была бы ностальгия с ее извечной хрупкостью, нежностью. Болота. Ели и березы. Поваленный телеграфный столб. По глинистой дороге с трудом тащится кляча. Благородная ложь. Правду не выразить. Хотя… сейчас погружусь в правду.
Up and down, up and down. А вот и девятка.
ИЗ ЗАПИСОК АНТАНАСА ГАРШВЫ
Был мне двадцать один год, жил я в Каунасе, изучал литературу, а на карманные расходы и на всякие развлечения зарабатывал игрой на бильярде.
В те годы модернизировали аллею Свободы. Исчезли булыжная мостовая и рельсы для конки. Улицу заасфальтировали, как и подобает в крупных городах. Разбогатевшее правительство возмечтало построить элегантные полунебоскребы. Красные автобусы мягко покачивали боками, легко и пружинисто подбрасывая вверх дам и мелких, любвеобильных господинчиков с торчащими, набитыми ватой плечами, что делало их похожими на ледоколы. В кафе Конрада вернувшиеся из Парижа художники перебрасывались французскими именами и часами пили одну-единственную чашечку кофе. В витринах книжных магазинов лежали новые издания по искусству, журналы, книги. Государственный театр вовсю экспериментировал, потрясая зрителей пышностью постановок, и чуть ли не каждую неделю расклеивал афиши с фамилиями знаменитых гастролеров. В «Версале» в сексуальном танце извивалась потертая мулатка, и известный инженер всякий раз переплачивал ей за ночь. Щеголи не чуяли под собой ног от гордости, ходили, повязав галстуки кричащих расцветок, за которые приходилось переплачивать, как и за мулатку.
Асфальт обрамлял окружностями уже стареющие липы. По бульвару горделиво вышагивали самые красивые в странах Балтии полицейские, флегматично курили папиросы облачившиеся в белое продавцы колбасок, и выдающийся оперный тенор прохаживался здесь же, совсем как Отелло на сцене. Появилось множество пивных баров с игральными автоматами, опустошавшими карманы, с вечным гомоном второразрядных артистов, писателей и управляющих.
И новая пророчица, которая, правда, теперь звалась мадам Кукареку, полупомешанная старуха, не обращала никакого внимания на то, «как много господ, какие все красивые», а шлепала мимо, разговаривая сама с собой среди всей этой пестроты и мелькания ярких огней, выстроенных домов, асфальта, лип, полицейских, колбасников и щеголей.
А когда темнело и над сумрачными липами в ореоле листвы загорались фонари, на тротуары стайками выплескивались проститутки, совсем как после окончания службы в костеле, и на их зубках маняще посверкивала цена. Их жадно оглядывали «шлифующие» мостовые гимназисты. Кавалеры с накладными плечами делали вид, что не замечают их, торопились на американские фильмы со своими любовницами или кандидатками в жены, причесанными и одетыми на западный манер.
А длинноволосый поэт шел по бульвару, запрокинув голову, как будто хотел разгадать звездную тайну. Концы его галстука, соответствующего, разумеется, профессии, ритмично подскакивали и бились по нестираной «манишке», в башмаки он подложил картон, так как подметки давным-давно стерлись. В его воображении взлетал колодезный журавль, в усадьбе пели первые петухи, а липы на Лайсвес аллее (алее Свободы) пахли совсем как липы на обочине поля.
В тот вечер я был счастлив. В кармане брюк звенело несколько десятков литов. Я наметил себе жертву из Паневежиса и выдоил-таки все из этого лысого помещика, то проигрывая, то осторожно и с полной неожиданностью выигрывая, потом снова фатально спуская выигранные деньги, и, наконец, после нескольких эффектных партий под хихиканье восхищенных зрителей ссыпал в карман монеты и оставил помещика досасывать бокал с пивом трясущимися губами.
На Лайсвес аллее я глубоко отдышался. Двое, трое суток были в моем распоряжении. Я шел с высоко поднятой головой. Никак не мог забыть, каким же молодцом я оказался сегодня. Мои пальцы спокойно поглаживали зеленое сукно, мои глаза точно измеряли расстояние, и кием я работал на редкость метко, шары один за другим попадали в лузы.
Вдруг я почувствовал перемену. Слабая дрожь волнами пробегала у меня по позвоночнику. Кружилась голова. «Неужели я меняюсь?» — осенила вдруг странная мысль. Я остановился возле кинотеатра. «И Лайсвес Аллея тоже меняется?» Я прислонился к витрине. По спине по-прежнему прокатывались волны. «Утомился от игры, наверное», — подумалось мне. И в этот миг я заметил Женю. Невысокую, опрятную, добросовестную проституточку в хорошем расположении духа на рабочем месте. Схватил ее за руку и потащил в переулок, в тень дома.
— Сдается мне, ты сегодня выиграл? — изучающе поглядев, поинтересовалась Женя.
— Да, выиграл, — ответил я.
— Хочешь меня? — опять спросила Женя. Я промолчал.
— Сдается мне, прежде всего ты хочешь выпить, — решила Женя.
— Угадала. Подожди здесь, сбегаю в магазин. Сегодня ночью мы будем пить красный крупник.
— Ты мне нравишься. Красный крупник тут ни при чем, сам знаешь, — с подкупающей простотой проговорила Женя. — Не воображаешь, а когда выпьешь, не ругаешься.
Сегодня будешь у меня первым. Получишь удовольствие, котик.
Я порылся в карманах и вытащил монету в два лита.
— На, возьми, пока не забыл. Наверно, уже две недели не могу долг отдать. Спасибо.
Женя бросает монетку в сумочку.
— Порядок, котик. Если понадобится, всегда тебе одолжу.
Эти слова она произнесла с отеческой теплотой, и я провел рукой по ее пушистым волосам.
И я снова стоял на Лайсвес аллее. Дрожь и слабость прошли. В гастрономическом отделе магазина я купил водки, крупника, сигарет, шпрот, ветчины, масла, хлеба, шоколад.
Хорошо помню ту ночь. Запах лип; свои легкие шаги; Женину руку, которую я гладил, как будто это была рука моей невесты; стройную башню музея; небо, месяц, звезды, Жалякальнис — Зеленую гору; ключ, я им отпирал дверь. Я любил Йоне, а этой ночью временно был с Женей и любил ее. Раздвоенность меня не терзала. Я перебрался в другую комнату; Йоне же просто-напросто соврал: живу в приличной семье, ей нельзя меня навещать. Мы встречались на природе и в комнате моего друга. Я обманывал Йоне, потому что был молод, крепок, уверен в себе. Я жил. Откровенно наслаждался жизнью. Это уже не был тот экстаз, разбавленный порядочной дозой лицедейства, который настиг меня тогда в Паланге. Это была юность. И сегодня ночью я дружил с проституткой Женей.