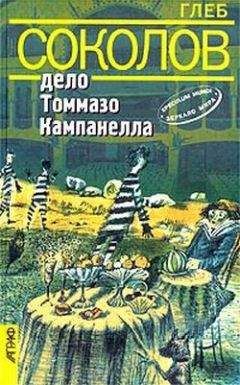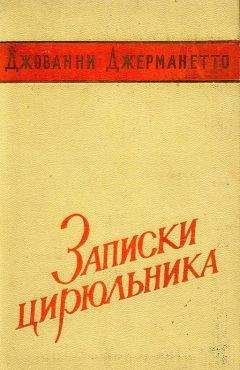Попросили сегодня сделать одну работенку в самом центре промышленной зоны. Возвращался за полночь. Еще десять лет назад тут была сплошная сельская местность, а теперь полно фабрик, складов, цистерн. Прошел мимо крупного завода «Калабрезе». Какой красивый этот завод ночью — весь залит светом, как парк культуры и отдыха. И тишина, только сверчки да лягушки заливаются в траве. Неожиданно по ту сторону ворот вырастают огромные сторожевые псы и лают с такой яростью, что сердце в пятки уходит. Псы с воем носятся вдоль ограды, сопровождая прохожих до следующих ворот. «Калабрезе» — магическое слово. Герой труда Анджело Калабрезе — и впрямь магическое… нет, скорей похоронное. В разговоре он скажет тебе, что дает хлеб множеству семей, но сам не ведает, что беспардонно вторгся в нашу жизнь вместе со зловонием своих цехов, тяжелым духом мазута, смрадом ржавчины, запахом смерти, вторгся в наши дома вместе со своими острыми стружками, вторгся в наши чувства, комнаты, сараи, огороды, хижины — и все осквернил, отравил, сделал мрачным и унылым. Теперь он гордо шагает, выпятив грудь и демонстрируя свою медаль героя труда.
Тому, кто должен работать сидя, предприятие выдает стулья — отвратительные, жесткие и с занозами. Мы сами делаем их удобными и мягкими, как папино кресло. Сами обиваем чем попало: к сиденью и спинке прилаживаем поролон, который крадем в отделе упаковки, закрепляем его клейкой лентой, и получается отличный стул, похожий на мумию, — странный стул, словно побывавший в дорожном происшествии.
Наша жизнь черна. Она тонет в тоске и унынии день ото дня, и вместо улучшений — сплошное ухудшение. Младшие начальники все больше наглеют, шпионят за нами. И чем больше сами бездельничают, тем больше выработки требуют от нас. Сил нет терпеть все это. Ни минуты покоя, даже спать ложишься в ужасе перед будильником. Есть у нас на заводе одна сволочь — мастер. Я всеми способами пытался дать ему понять, что хватит действовать на нервы, объяснял, что он тут ноль без палочки, что его еще больше надувают, чем меня. Все без толку. Продолжает подличать. Даже сам хозяин, ей-богу, не такая уж сволочь по сравнению с этими ядовитыми шпионами. Вот бы жить без начальства!
Философы и исследователи рабочего движения тут не помогут. Средство одно: устранить паразитов. Уверен, что на заводе работа пошла бы гораздо лучше. Как хорошо жилось бы без них. У меня появилась идея. Нужно, как в детективе, совершить идеальное преступление. Я бы этого мастера убрал тихо и интеллигентно. Подозвал бы его к станку и в нужную секунду толкнул бы рычажок, нажал бы простую кнопочку. На того бы сверзилась тяжелая стальная деталь килограммов на тридцать — и аминь! Только двинь рычажок, нажми кнопочку, и — ррраз! — дело сделано. А то: исследователи рабочего движения, специалисты по стоимости труда, психологи, антропологи…
Поглядываю краем глаза в телевизор, там соревнования по теннису. Комментатор подмечает и сопровождает пояснениями каждое движение теннисистки, просит дать замедленный повтор каждого сокращения ее мышц. Когда я работаю у станка, на меня никто не смотрит. А как было бы интересно! И мне опять же приятно работать перед телекамерой, чтобы комментатор объяснял: «Итак, Ди Чаула начерно обрабатывает деталь, вот он затачивает резец, а теперь отлучается по нужде, но ненадолго. Вновь рабочий появился на наших телеэкранах, сейчас при помощи сверла на 22 он делает отверстие в детали, мы видим, как стиснуты от напряжения его зубы… Смотрите, он почесался и вновь целиком углубился в трудовой процесс…»
Вдруг замечаешь, как она течет, горячая и густая. Именно тогда, когда меньше всего этого ожидал. Кровь. Она, обжигая, стекает по коже, капает на комбинезон. Странно видеть красную кровь на голубой спецовке. В самом деле странно. Я отчетливо испытал это ощущение, когда острейшей стружкой мне порезало последнюю фалангу мизинца на правой руке. Был конец рабочего дня, и я счищал со своего токарного станка накопившиеся за день стружки. Длинные и очень тонкие стружки нержавеющей стали — я точил резьбу на винтах. Вдруг заметил, как она стекает по руке, и увидел рассеченный палец. Как раз в это время один обалдуй из наших рабочих донимал меня, облокотившись на ящик для этих самых стружек. Как обычно, его волновала моя борода. Да сбрей ты ее, да на что тебе борода, она тебя старит, портит, послушай меня, сбрей… На этот раз я не ответил ему, я был занят своим пальцем. Отметил уход и помчался в медпункт, но там, как назло, все уже разбежались. Что делать? Кто отвезет меня в отдел страхования? И тут вспомнил, что внизу меня ждет моя будущая жена — мы собирались приобретать мебель. До свадьбы оставалась неделя, и нужно было что-нибудь купить. Она-то и повезла меня вместо мебельного магазина в страховое агентство.
Помню, так и отправился в свадебное путешествие с перевязанной рукой. Чувствовал себя скверно. Мучило какое-то беспокойство. День свадьбы прошел в большом напряжении. Мы обвенчались в скромной церквушке. Ненавижу роскошь. А в церкви венчался, чтобы не огорчать родителей, причем церемонию заказал очень простую. Потом поехали в небольшой ресторан на побережье. Мои родичи остались явно недовольны. Нас было всего девятнадцать человек. Как говорится, необходимый минимум. Я не стал звать всех дядьев и теток, чтобы не устраивать балаган. Вдобавок почему-то не подали торт. Моя свояченица под предлогом того, что дети капризничали, встала и демонстративно ушла. Буржуйка вонючая! Мы все — голодранцы, но избалованные. Теперь, когда минули годы, она мне говорит: мол, ты был прав, Томмазо. Но за глаза до сих пор вспоминает, как я «оскандалился».
Он — профсоюзник. Но не из хороших, а наоборот: делец и махинатор, как многие ему подобные. Смотрю на него. Снова смотрю. Ах ты, мой любимый! И это наш профсоюзный делегат, который призван заботиться о наших интересах? Допустим. Только мне с этим субъектом говорить не о чем. Мы живем на разных планетах, хотя он меня и представляет. Вот он ведет диалог с моими врагами — заслушаешься. Подумать только, он — нынешнее звено в той долгой цепи, которая, растянувшись на десятки лет, заключила в себе потоки книг, мечты, надежды, подпольную борьбу и кровь, кровь, кровь…
У нас пятеро таких рабочих. Они живут очень далеко, километров за сорок, и вставать им приходится ни свет ни заря. Но им, видно, это нипочем, потому что каждое утро они приезжают в город делать стружку, то есть работать на своих токарных станках. Еще несколько лет назад это было в моде: у деревенских считалось шиком работать на производстве. Подниматься затемно и целых два часа ехать ради какой-то кучки витых стружек. Хоть бы сыру свежего нам сюда привозили, все одно по дороге!
Входим на завод к началу второй смены. В раздевалке как в душегубке. На нас самая легкая одежда: деревянные сабо, тенниски, холщовые брюки. Вахтеры издеваются: на пляж, что ли, собрались? Но через несколько минут прохладную спортивную одежду сменяет грубая, провонявшая металлом спецовка. Часы показывают без пятнадцати три. Впереди восемь долгих часов работы. Кто-то из рабочих, швырнув в шкаф свои сабо, со вздохом восклицает: «Везет тому, кто в этот час дрыхнет с королевой!»
Работаю на сверхточном шлифовальном станке. Такие станки бывают разных типов. Мой обрабатывает наружные поверхности деталей, не имеющих центров. То есть во время работы деталь не закреплена в двух центровых точках, а свободно перемещается между двумя шлифовальными кругами: один ее обрабатывает, а другой перемещает, заставляет вращаться. Поскольку трение велико, необходимо большое количество воды, которая низвергается на деталь, словно маленький белый водопад. Когда восемь часов подряд неотрывно смотришь на деталь, этот тихо работающий станок из холодного, серого и бездушного превращается в фантастический. Вода расходится тысячей струек и фейерверком брызг, вливаясь в специальные отверстия станка и выплескиваясь из других. Рядом с собой никого больше не замечаю; мне теперь чудится пещера в углу цеха — настоящий морской грот, слышу крики чаек и смех девушек на пляже. Автоматическими движениями закладываю детали между кругами — грязные, необработанные, неровные, они выскакивают с другого конца чистые, сверкающие и точного размера.
Есть у меня недостаток, а может, и достоинство: я подчеркиваю в газетах наиболее интересные места. Вот и сейчас держу в руках газету, где на каждой странице по меньшей мере две-три статьи, сплошь подчеркнутые. Нередко убеждаю себя: чего ради прочитывать все газеты до конца, ведь безобразия от этого не прекратятся? Но случается, купишь газету, прочтешь о чем-то совершенно новом для себя и подумаешь: черт, не напрасно купил. Должны же мы знать, что там порешили над нашими головами и до каких пор горстка оглоедов будет плевать нам в морду. Задаю себе вопрос: а сколько людей прочитало эту газету? И какое право имеют те, кто не прочитали, голосовать, что-то решать и вообще жить?