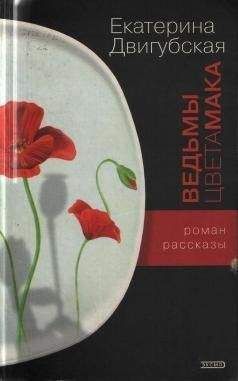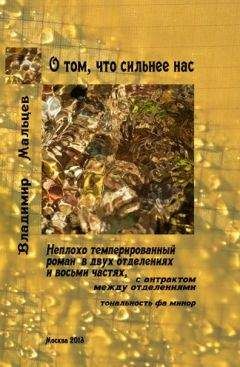— Не люблю интеллигентов. Они Россию погубили.
— Давай спать, мне рано вставать.
— Да, настоящие Весы любят порядок, никогда не теряют головы!
— Не верю я в гороскоп.
— И очень зря, это древнейшая наука. Вот ты — форменные Весы!
— А ты форменная женщина!
— Не знаю — обижаться мне или нет.
— Нет.
Утром Иван осторожно сложил с себя Маринины руки и ноги, одних рук ей было мало, она пыталась обнять его всем телом, чтобы, не дай бог, он не сбежал. Иван почему-то перекрестил спящую женщину, а потом поцеловал в лоб. Крадучись, прошёл на кухню, его распирало, хотелось бегать и кричать, он встал на колени и заплакал.
Вскоре с кухни неслись вкусные звуки, когда Маринина качающаяся фигура образовалась в проёме двери, к ней навстречу выпрыгнули два тоста, воздух был перемолот с запахом кофе, в ведре валялось несколько истерзанных кожиц апельсина. Иван смотрел на Марину и не узнавал, где та растерянность, что он видел несколько дней назад? Теперь перед ним булгаковская Маргарита — с растёкшимися русыми волосами, яркими, набухшими губами, — Марина как будто выросла и налилась, и в этом была самая настоящая женская, а не девичья красота, когда хочется жить сейчас, а не стремиться куда-то в неясное будущее своими планами и мечтами.
— Как спала?
— Чудесно. А что мы будем сегодня делать?
— Тебе не надо на работу? — спросил Иван.
— Надо, но так не хочется.
— Тогда поедем, я тебе Машу покажу.
— Что значит — покажу?
— Люба запретила мне с ней общаться.
— Фу, какая злая! — Марина обняла Ивана и прижалась к нему.
— Она не злая, а несчастная. И ни мне, ни себе не хочет простить нашего общего несчастья. — Иван вырвался и сам обнял Марину. — Умываться и за стол!
— Я думала, общее может быть только счастье. Вчера ты говорил, что у тебя дела.
— Я говорил, что мне надо рано вставать. Иди умываться, негодная девчонка!
— Я сначала завтракаю, а потом моюсь.
— Чюмазюра!
Марина забралась на тумбочку и начала болтать ногами, он наклонился и поцеловал её острые колени, щиколотки, пальцы ног с маленькими блестящими ногтями.
— Горе уродливо и безобразно, и люди не хотят в нём разбираться, просто хотят перетерпеть или избавиться от него. Но есть такой редкий тип людей, вроде Любы, который питается собственной неудовлетворённостью и поедает всех остальных. Если бы я продолжал с ней жить, от меня бы ничего не осталось. Она бы меня высосала. Ты не думай, что я предатель. Но это была не жизнь. Я ей помогаю и буду помогать до конца своих дней. Только вот Машу жаль. Какие у тебя пяточки! — Иван поцеловал их — никто в жизни не целовал Марине ноги, а Инга когда-то нагадала, что её мужем станет человек, который после первой ночи поцелует ей пальцы ног. Марина тихо улыбнулась и зажмурилась, Иван снял её с тумбы, она, не раскрывая глаз, обхватила его.
— Ты любишь философствовать — это плохо. Я предпочитаю действовать. Давай её украдём?
— Ты представляешь, что будет с Любой? — спросил он и поцеловал Марину в глаза, в горячие, чуть пахнущие сном, губы, в прозрачные уши.
— Ай, щекотно. Ничего не будет, женщины живучи. — Марина слезла с рук Ивана. Сев за стол, она стала мазать маслом тост. Иван отнял его и сам начал делать бутерброд, а она продолжала говорить: — Столько веков выживали и сейчас выживем. Это вы вымираете, может, мне достался последний из уцелевших мамонтов. — И Марина заглянула в его глаза, мир начал крутиться вокруг своей оси быстро-быстро, было видно, как мелькают в зрачках Ивана кухонные шкафы, холодильник, банки с крупами, настенные часы. Марина дёрнулась и звонко чмокнула его в нос.
— С тобой всё в порядке? — спросил, смущаясь, Иван.
— Жить не хочется от счастья, ещё чуть-чуть, и голова оторвётся.
— Какая ты забавная. Ты моя рыся!
— Почему рыся?
— А почему мамонт?
— Потому что ты в метро обязательно уступишь женщине место.
— На метро я не езжу, а езжу на такси, и не мамонт я вовсе, а химик-неудачник.
— Почему неудачник?
— Все как-то приспособились, а я работаю таксистом, а по ночам вывожу обжору. В прошлом году поехал читать лекции в Айдахо, к моему другу, с которым мы на охоту ходили.
— Илья, кажется? У него ещё уши мохнатые и глаза добрые.
— Не у него, а у медовика. Подожди, рыся, дай я тебе про Айдахо расскажу.
— Айдахо — положи голову на плаху. — Марина соскочила со стула, уселась на колени Ивана и начала запихивать ему в рот бутерброд.
— Рыся, подожди.
— Ну что? Они от тебя обалдели?
— Да, и не могли понять, как мы работаем. Они очень ценят русских учёных, потому что мы не зашорены. У нас есть только лом и мат, а оборудование, кроме компьютеров, с советских времён не покупали.
— Ты это вчера говорил!
— Я тебе и химик, и биолог, и таксист!
— Поедем в Айдахо!
— А они ходят только по своей узкой, проторённой колее. И ничего другого знать не имеют права. Профсоюз! Ну и жизнь!
— Поедем в штат Монтану, вступим в профсоюз.
— Предлагали остаться. А я испугался — если уеду, то тут совсем опустеет. Надо же быть таким дураком!
— Ничего, не боись! Я буду на машинке строчить и деньги зарабатывать, а ты мир от загрязнений очищать.
— А кому это нужно?
— Как кому? Мне.
Они подъехали к круглому, немного застенчивому зданию школы, дети высыпали во двор, чтобы поиграть на большой перемене, было тихо, как в немом кино. Из здания выбежали две девочки-близняшки, им было лет по семь-восемь, красивые, с искрящимися улыбками, рыжими волосами, убранными праздничными лентами — они походили на диковинных птиц, издающих свистящие звуки. Сёстры раскатывали слова, и это был не человеческий язык, а язык эльфов, и казалось, соверши рядом с ними грубый поступок — они исчезнут, исчезнут навсегда и безвозвратно.
Сердце у Марины сжалось в детский кулак, захотелось сбегать в соседний универмаг и купить конфет, а потом развернуть разноцветные фантики и накормить шоколадом детей, чуть касаясь молчаливых губ, чтобы они ожили и заговорили.
— Они же не глухонемые, нет?
— От рождения они были нормальные и умели говорить, но потом чем-то заболели, врачи дали сильнодействующий препарат, но не учли, что у близнецов иная доза, чем у обыкновенных детей. Это лекарство повлияло на слух. Девочки, должно быть, помнят какие-то слова, но они ни себя, ни других людей не слышат, поэтому так странно говорят.
— Тяжело было Бетховену!
— Он гений.
— А ты?
— А я рядовой сотрудник Института микробиологии.
— Нет, нет и нет. Не хочу любить рядового сотрудника. — Марина начала смешно прыгать на одной ноге. — Я вот тоже гений, я гений из гениев, я — Моцарт готового платья, я — Шекспир ниток и катушек, я — Рахманинов убегающей строчки!
Её слова замерли, прыжок оборвался, Марина неловко приземлилась, на неё смотрело перламутровое лицо Маши, которая улыбнулась и беззвучно, в себя засмеялась, чуть подрагивая головой. Марина подумал, что надо тоже улыбнуться. Её поразили Машины глаза — совсем не детские, со взглядом полного самообладания, мудрости, она будто слушала ими. В каждом её движении была хирургическая точность, и это не имело никакого отношения к суетливой расчётливости Марины, ни минуты не могущей прожить без пользы, каждый день подсчитывающей, сколько времени она провела правильно, а сколько зря, и болтающейся в своём волнении до изнеможения. У женщины дрожали колени, ей казалось, что от этой вибрации она расплещет себя. Девочка протянула маленькую, чуть липкую руку, под ногтями которой спряталась грязь, Марине стало легче, и они, крепко сцепив пальцы, направилась к Ивану, он смотрел на них, и его сердце замирало и пряталось в ожидании, когда они к нему подойдут. Волна накрыла и погребла их под солёными брызгами счастья, и жить совсем расхотелось.
— Дорогие мои.
Он обхватил их и приподнял над землёй — таких лёгких, что они еле касались рук.
— Я Марина.
— Маша, — сказал за дочь Иван, и они улыбались, и улыбки их ершились на ветру.
По лицу Ивана пробежала беспокойная тень, он оглянулся и поставил их обратно на тротуар, Маша отрицательно мотнула головой, Иван вздохнул и опять распахнул створки своей души, обнажая белые зубы никогда не курившего человека. Из-за их спин донёсся крик, скорее похожий на свист дельфина, это одна из сестёр выражала своё недовольство, что из дверей школы вышла воспитательница и начала махать красным флажком, теперь детям придётся побросать своё детство и отправиться становиться взрослыми и образованными. Маша на секунду остановилась, посмотрела на взрослых, поцеловала сухими губами сначала Марину, потом отца и убежала, шелестя смехом.