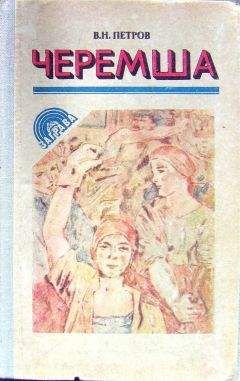Оксана промолчала, сочувствия никакого не выразила — наверняка не поверила.
Фроська сожалеюще вздохнула ей вслед: вот ведь незадача… Ну не понимала она эту улыбчивую добрячку с её осторожной въедливостью, не понимала восторженную её влюблённость в стройку, в хаос досок, тачек, железных прутьев, тёсаных камней и суетливой обожжённой солнцем рабочей толпы.
И саму стройку она не понимала. Простота и открытость человеческих отношений вовсе не были доступным для каждого щедрым даром, как это сперва показалось Фроське. За это, оказывается, надо было многим платить. Не только до предела напряжённой работой (работа её никогда не пугала), но чем-то неизмеримо большим.
Может быть, даже полным отказом от прошлого, от всего того, что ещё с детства тёплым комочком надёжно и уютно улеглось на сердце, что ещё изредка возвращалось в сны, что не один раз поддерживало её в трудные минуты, окрыляло, укрепляло душевные силы.
Тайга приучила её общаться с миром один на один, выборочно и по-своему оценивать происходящее: события, сложные дела, встреченных людей.
Теперь всё это, бывшее недавно главным для неё, постепенно, но неумолимо отходило, отодвигалось на второй план, делалось несущественным, а для посторонних даже смешным.
Она чувствовала, что её словно бы подхватило неведомой волной и несло вдаль, с каждым днём всё опасное накреняя и всё дальше отрывая от привычного твёрдого таёжного берега. Новая жизнь казалась тревожной и зыбкой, в ней решали её, Фроськину, судьбу многие чужие, незнакомые люди.
Она пугалась и, как могла, противилась этому… В душе её чутко жила странная раздвоенность. Многолюдье с его суетой, добротой, симпатиями и неприязнью откровенно нравилось, в то же время она боялась его, боялась раствориться в нём, сникнуть, увянуть, затеряться, забыть о своей дороге, о своём большом пути, ради которого она порвала с Авдотьиной пустынью, переступив монастырский устав.
Первый день на стройке многому её научил, теперь она шла осторожно, нащупывая подошвой каждый новый шаг.
Главное — не торопиться, не пороть горячку. Ничто от неё не уйдёт: ни грамота, ни клубные развлечения, ни сменная норма выработки. Всему будет своё время.
В четверг утром, до работы, Оксана велела Фроське сбегать в контору за бригадным нарядом. Напротив конторского крыльца Фроська задержалась: какой-то долговязый парень, увешанный значками, прикреплял на доску объявлений плакат. Ватманский лист коробился, кнопки не лезли, гнулись, и парень, чертыхнувшись, поманил Фроську: "Помоги, придержи!"
Развёртывая плакат, Фроська по складам прочитала чёрное жирное слово: "По-зор!" Заинтересовалась: это кому же позор? И обомлела: ниже во весь плакат была нарисована Оксанина бригада! Восемь лупоглазых девчат во главе с красноголовой бригадиршей сидели на хвосте омерзительной зубастой крысы. А на самом кончике, похоже, притулилась Фроська: сзади топорщилась косичка-крендель, как у дворового барбоса.
У Фроськи сразу пересохло в горле.
— Кто рисовал? — хрипло спросила она.
— Я! — сказал парень и, отойдя на несколько шагов, прищёлкнул пальцами. — А что, неплохо получилось!
Вообще-то, я киномеханик, но иногда по комсомольской линии агитсатирой занимаюсь.
— Ну и дурак, — сквозь зубы бросила Фроська.
— Что ты сказала!? — взвинтился парень. — А ну повтори!
— Дуракам два раза не повторяют, — Фроська швырнула на землю кнопки и пошла в контору за нарядами. Однако автор плаката в два прыжка догнал её, рассерженно встал на дороге.
— Стой, дальше ни с места. Ты почему оскорбляешь? Ты вообще кто такая? — парень вертел жилистой шеей, сверлил Фроську в упор чёрными прищуренными глазками. — А, ты, наверно, бетонщица?
— Ну бетонщица. Тебе какое дело?
— И, наверно, из этой бригады? Так вот как вы, бетонщицы, реагируете на критику! Что ж ты в плакате плохого увидела?
— То, что изгиляешься над людями. Крысу зачем нарисовал?
— А затем, что вы "хвостисты". Работать надо лучше, поняла?
— Вот ты приди и покажи, как надо работать, — Фроська бесцеремонно отстранила парня и взбежала на крыльцо. — Покажи, а мы научимся.
Парень ей вслед крикнул:
— Имей в виду, этот выпад я так не оставлю. Мы тебя как следует проработаем!
На обратном пути, уже получив наряд, Фроська снова остановилась у плаката. Огляделась и, поплевав на палец, размазала своё изображение. Так, чтобы не видно было косы (коса-то у неё одной в бригаде).
Девчатам про плакат Фроська ничего не сказала. Однако бригадирша сразу почувствовала неладное, пристально вгляделась в Фроську, спросила:
— Какая-то взбудораженная ты… Раскраснелась, будто из бани выскочила. Опять, наверно, с кем-нибудь поругалась?
— Да там один под руку подвернулся, — неохотно объяснила Фроська. — Понимаешь, агитсатиру на нас нарисовал. На нашу бригаду. А тебя намалевал просто срам: патлатую, с красными волосами, чисто ведьму. Тьфу!
Фроська с отвращением плюнула, умолчав, однако, о своём изображении.
Бригадирша встретила известие поразительно спокойно, пожалуй, равнодушно. Правда, поинтересовалась:
— А как нарисовал-то? Небось на черепахе?
— На крысе! На крысином хвосте, — фыркнула, передёрнулась Фроська.
— А вот это нехорошо. Я тоже крыс не люблю. Фу, поганые!
Оксана явно посмеивалась, и Фроська недоумевала: что за народ тут на стройке собрался? Её рисуют в пакостном виде, изгиляются, а она, посмотри-ка, хихикает… Да ведь молва теперь пойдёт всюду, худая молва!
— Может, пойдём сдёрнем да порвём тот плакат? — предложила Фроська. — А боишься, так я одна сбегаю.
— Ну, ну, остынь, Фрося! — примирительно сказала бригадирша. — На что обижаться-то, сама подумай? Мы же отстаём? Отстаём. Считай, что целую неделю план валим. И ты, и другие наши девчата в норму даже не укладываетесь. Стало быть, критикуют нас правильно. Справедливо. А на критику надо отвечать не обидой, а делом.
Фроська потом полдня ломала голову, прикидывала да размышляла. Как же так получается? Тебя принародно обижают, оскорбляют, а ты — молчи. Ну ладно, норму она, положим, действительно не выполняет, так надо сперва разобраться, почему. А может, у неё и вправду хворь суставная, может, у неё поясница совсем не разгибается. Нет, чтобы поговорить, расспросить, посочувствовать, так сразу на плакате изобразили, на крысиный хвост приспособили…
Самое поразительное состояло в том, что чернявые Оксанины девчата, все как одна, вели себя безучастно, почти равнодушно, хотя о позорном плакате к обеду знала уже вся стройка. Дуська — сыроежка-пигалица из соседней бригады, бегая с тачкой по ближним мосткам, не один раз злорадно показывала "харкивянкам" ладонь над своим тощим задом: дескать, пошевеливайтесь, "хвостатые"!
А они работали как ни в чём не бывало, с обычной сноровистостью катали тачки, а в обеденный перерыв, тоже как обычно, в тенёчке за конторкой спели свою голосистую "Ой за гаем-гаем". Для них, надо полагать, "агитсатира" была не в диковинку. Знать, привыкли к этой самой "критике", размышляла Фроська, поднаторели, пообтёрлись. Надо и ей самой тоже привыкать. Уж, наверно, так заведено. Рисуют, ну и пущай себе рисуют.
А злость всё равно не проходила. Никак не могла забыть Фроська многозначительный ехидный жест Дуськи-пигалицы, закипела в крови ярость, даже про больную поясницу, про мозоли на ладонях забыла. Моталась по мосткам, как ошпаренная, у разливочной не миндальничала в очереди, расталкивала и своих, и чужих, подставляя тачку под свежий замес.
В столовке Оксана хлопнула в ладони, показывая для счёта растопыренные пальцы, потом подняла над головой правую руку.
— Десять и пять — пятнадцать! Молодец, Фроська! Пятнадцать тачек выдала за полсмены.
— Да ладно, — устало отмахнулась она. — Я не считала.
— Вот так и после обеда шуруй. Не считай. Оно лучше получается.
Нет, лучше не получилось. После полудня — жара, духота. Настоящее пекло разлилось в безветрии над раскалённой глыбой плотины, в недвижном мареве висела едучая цементная пыль.
Еле дотянула Фроська до сменной нормы. Но дотянула. Долго потом приходила в себя под холодным душем, отмывая въевшуюся в поры, белёсую грязь. Чувствовала облегчение, понимая, что вот так незаметно, в горячке, в душевном недовольстве, переломила себя. И теперь была уверена: завтра будет уже легче. Про обидный плакат вспомнила спокойно, даже с усмешкой: этот долговязый чудак нарисовал её в туфлях на высоком каблуке. Да у неё их отродясь не было, и надевать-то не пробовала!
Выйдя из душевой, Фроська опешила от неожиданности, носом к носу столкнувшись с утренним своим знакомым, тонкошеим автором плаката. Правда, теперь он был без пиджака, в рубашке-косоворотке, однако Фроська сразу узнала его (да и как не узнать — жердина стоеросовая!) Ну, а он тоже, оказывается, был не из забывчивых.