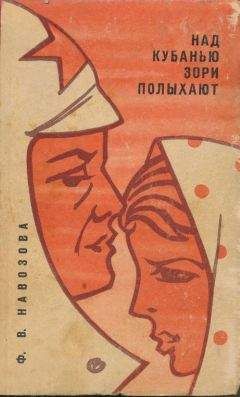— Он! Яшенька идёт! Легок на помине! Прощай, подружка!
Аксютка вылетела из горницы, хлопнула дверью, переполошила заводновских собак и выскочила на улицу.
По случаю субботы Яков шёл от попа раньше, чем обычно.
— Яшка! — окликнула его Аксюта. — Погоди! Вместе пойдём, нам по пути!
С того дня Яшкина гармонь снова частенько звенела по вечерам на Козюлиной балке и терзала сердце поповской стряпухе Катерине.
Однажды, уже поздно вечером, Катерина подкараулила Яшку на лугу. Вышла с хворостинкой, будто поповского телёнка поискать, и весь вечер промаялась, ожидая милёнка с гулянья. Яшка шёл неторопливо, неся гармонь на плече.
— Откуда, Яшенька? Не с Козюлиной ли балки? — спросила его Катерина.
— Где был, там меня нету, А если и с Козюлиной, так хто же мне запретит? — останавливаясь, грубо бросил Яшка.
Катерина, нервно помахивая хворостинкой, пошла рядом и, стараясь казаться весёлой, ревниво допрашивала:
— Антиресно знать, с какой кралей симпатию завёл?
— С виновой.
Катька даже остановилась от неожиданности и, еле Дыша, хрипло переспросила:
— С виновой, говоришь?
Вся станица звала Аксютку Матушкину «виновой кралей» за удивительное сходство с дамой пик, изображённой на картах.
Катерина всплеснула руками и плюхнулась прямо в колючки.
— Головушка ты моя горькая! — заголосила она. — К кому тебе склониться, сиротинушке? Кто пожалеет, приголубит тебя, разнесчастную?
У Яшки от жалости захолонуло сердце: слез женских он не переносил.
Присев рядом с Катериной, он принялся утешать её и уговаривать:
— Да ты-: что, шуток не понимаешь, что ли? Да я с этими виновыми с Козюлиной балки только так, для виду, вот что! А ты через, них слезы роняешь, душу себе выматываешь. А ну, перестань! Перестань, говорю!
Он вытащил из кармана платок, вышитый ею же, Катериной, и стал вытирать горькие вдовьи слезы.
— Неужели ты не понимаешь, — тихим голосом убеждал он, — что на заметке я у самого атамана. Вечерами я буду гулять на Козюлиной балке для отвода глаз: политика у меня такая, а до зорьки я с тобой. Вот тут, в этой балочке, и встречай меня попозже. Не на кухне же нам с тобой целоваться. Попадья нюхом узнает — и конец нашей любви.
У Катерины на душе полегчало.
— Значит, любишь?
— О чём спрашиваешь? Не любил бы, так и к попу в работники не пошёл. Из‑за тебя нанялся, — соврал Яшка.
Яшка сбросил с плеч ремень гармонии и крепко прижал к себе Катерину.
— Дурная ты, Катька! Пойми, что Аксютка мне кое-что антересное рассказывает, про то, что у атамана нашего делается. Ведь отец её, сама знаешь, в выборных ходит, с Колесниковым вместе дела делает. Нельзя мне для нашей же пользы отказаться от такого. Понимать надо. А ты заместо этого губы дуешь.
— Поняла я, Яша, Поняла…
Катерина разнеженно обняла дружка.
С Аксютой Яков теперь встречался часто. То едут они в лес за калиной, грушами, за дровами. То за водой к Проявному колодцу отправляются.
Запряжет Яшка пару добрых поповских лошадей в ход с бочкой — и попу воды привезёт, и Матушкиным не забудет вылить бочку в бассейн.
Заберется Аксютка рядом с ним на облучок и всю дорогу рассказывает всякую всячину: кого думают обыскивать, кого арестовывать, кого из карателей в правлении ждут, где думают каратели обосноваться. Аксютка передаёт Яшке, а Яшка — куда следует.
Скоро об Аксютке заговорили в станице: связалась с Яшкой.
Дома мать не раз отчитывала Аксюту за то, что не блюдёт она казачью честь. А Аксюта огрызалась:
— Да ты што, маманя, в этом деле понимаешь! Ведь если красные победят, то и бабам по четыре десятины земли нарежут. Ведь у нас бабы–казачки, что твои иногородние: ни прав, ни земли.
— Ох, господи, што мне с тобой, Аксютка, делать? — сокрушённо сетовала мать и проливала горькие слезы, чуя беду неминучую.
— А ничего! Не приставайте! — грубила отчаянная Аксютка.
Яшка заметно охладевал к Катерине, а Аксютке обещал:
— Хорошая ты девка, Аксютка. Но сейчас мне нельзя жениться: если сбежишь ко мне, отцу своему голову снимешь, а вот беляки отступят, тогда первая свадьба наша и убегать не будем.
Аксютка вздыхала. Прижимаясь к Яшке, она ревниво шептала:
— А Катька твоя разлюбезная? Как она на это поглядит!
— Ху ты! Да Катька же для отвода глаз: политика У меня такая… Што мне Катька, когда ты рядом!
В станиЦе все чаЩе и чаще появлялись раненые Казаки из‑под Орла и Воронежа. Эти «добровольцы» армии белых, приезжавшие домой на поправку, не хотели возвращаться обратно на фронт и прятались по половням, уходили в леса.
А вскоре станицу облетела новость: Яшка–гармониет как в воду канул. Вместе с ним убежала дочь выборного Аксюта Матушкина.
Но когда любопытные кумушки будто ненароком забегали к Матушкиным, то там никакой тревоги не встречали.
Мать Аксюты степенно поясняла, что дочь уехала на зиму в монастырь к знакомым сёстрам–монахпиям учиться вышиванию и чтению акафистов по покойникам.
— Дело это почётное. Только время‑то не такое, чтобы посылать дочку в монастырь разучивать акафисты, — шептались соседки. — Вот увидите, что вернётся Аксютка с акафистом в пелёнках!
Но Матушкины только на людях держались спокойно. По ночам Аксюткина мать глаза выплакивала, горюя о пропавшей дочери. Сам Матушкин, суровый казачина с недобрым взглядом, целыми ночами дымил самосадом и строго наказывал жене:
— Стой на том, что Аксютка в монастыре! А то не только позор примем, но и к карателям можем угодить — ведь не одна, а с этим хромым чёртом убежала… И наливаясь злобой, шипел:
— Добаловали разъединственную, донаряжали доченьку! Срам какой на голову нашу! Убегла, стерва, с босяком. Ну, нехай вернётся — голову оторву, живую из колен не выпущу, запорю!
— О господи, да што ты вперёд грозишь! — стонала мать. —Лишь бы жива была, нехай домой ворочается. Одна ведь она у нас…
Отец Аксютки почти ежедневно выезжал на линейке на станцию к приходу пассажирских поездов. Он привязывал лошадей к акации и долго толкался на перроне. На Кавказскую шёл эшелон за эшелоном, не задерживаясь на глухой станции. Пассажиры в станицу редко случались. Отец с надеждой вглядывался в каждую девичью фигуру.
Однажды, опираясь на костыль, с трудом передвигая ноги, к нему подошёл Мишка Рябцев.
. — Што, чистую получил?’— спросил Матушкин, усаживая соседа на линейку.
— Какое там! — с горечью воскликнул Мишка. — Две недели на поправку — и снова в чёртово колесо. Видишь, так и гонят мясцо солдатское!
Мишка сердито ткнул рукой в сторону эшелона.
I — Значит, дело кадетов швах? —уставился на Мишку Матушкин.
Мишка многозначительно пожал плечами:
— Нам не докладывают.
Число дезертиров из белой армии в станице всё увеличивалось: родные и друзья укрывали их.
Участковый начальник Марченко устраивал облаву за облавой, обшаривая старые скирды на токах, в степи и на огородах, заглядывая в зимовники, проверял чердаки, подвалы и половни.
Мишка Рябцев продолжал жить дома. Две недели отпуска уже давно минули. Рана зажила, но он и не думал возвращаться в свою сотню.
Отец Мишки, уже дважды побывавший у станичного фельдшера, отвёз ему двух ярочек и получил для сына дополнительные две недели отдыха. В третий раз фельдшер отправил Мишкиного отца вместе с овцой домой, да ещё пригрозил донести участковому. И вот уже неделя, как все знали, что Мишка незаконно проживает дома.
Старик Рябцев уговаривал сына:
— Такая уж доля казацкая — воевать, бунты усмирять. Ты думаешь, Мишка, для чего казаки были нужны царю: для усмирения, для истребления внутренних врагов. Так оно с исстари ведётся! Надо служить, сынок! И так я за тебя этому живоглоту фершалу двух овечек из семи отдал.
Мишка возражал:
— Да ведь царя‑то давным–давно нету. А хто у нас в России внутренний враг — ещё неизвестно. Я вот навоевался в «волчьей» сотне Шкуро, так распознал, что настоящие враги народу — это мы, шкуринцы, деникинцы, которые под буржуйскую заграничную дудку пляшут… Ну, скажите, папаша, с кем мы воюем? С рабочим народом воюем! Ну, к примеру скажем, какой мне враг Яшка–гармонист? Ведь он мой задушевный друг, а я должен ловить его. За што? За то, что он бьётся за лучшую долю, за то, чтобы и у него, как и у нас, землица была, чтобы не батрачил он больше на попов и начальников.
Пока сын говорил, старый казак все шире раскрывал глаза. Потом вдруг стукнул костылём о пол:
— Цыц ты, сукин сын! Прокляну за такие слова!
Мишка вскочил и выкрикнул:
— Ну што же, кляните, если вам хочется скорее погубить родного сына, кляните!
Отец молчал. В ярости он сжимал кулаки. В комнате наступила тишина. Мишка повернулся и, глядя куда‑то на улицу, тихо проговорил:
— Да поймите вы, тятя, навоевался я и нагляделся горестей по горло! Это не война, а настоящая бойня! — И резко повернувшись к отцу, он сделал к нему шаг, вскинул руку, указывая на грудь, и вдруг спросил: — Ну скажите мне, папаша, хто вы? Богач? Да? — и горько усмехнувшись, продолжал: — Вон хата покосилась, скоро на бок сядет. Две лошади, и то одна из них косандылая. — И повышая голос, он почти закричал: — Ну окажите мне, за кого мы воюем? За кого? Вот вы в своё время воевали, так говорили: «За веру, царя и отечество», — а я за кого? Нет, отвоевался я! Нехай меня арестовывают, нехай казнят, а к шкуринцам я больше не вернусь! Что Шкуро, что Шкурников — одинаково с людей шкуры дерут. Пахать да сеять надо, а вы гоните меня из дому!