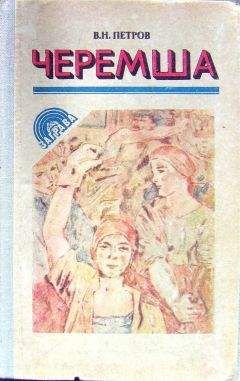Ну, а что он будет делать в Германии, что его ждёт там? Нацистов-штурмовиков он не приемлет, партия социал-демократов, в которую он когда-то входил, фактически разогнана и поставлена вне закона.
Но, чёрт побери, почему обязательно нужно вмешиваться в политику? В конце концов, какое ему дело, кто именно и как правит Германией? Он инженер, квалифицированный строитель, и ему всегда найдётся достойное рабочее место в стране, переживающей сейчас бум национального возрождения.
Военизация, угар милитаризма, диктаторские строгости так называемого "нового порядка"? Во-первых, за всем этим немало домыслов и преувеличений. А кроме того, "Дойчлянд юбер аллес" — не так уж плохо, даже если это горланят штурмовики.
Да, ему надо уезжать на родину… Но уезжать достойно и солидно.
Основательно захмелев, Крюгель вдруг вспомнил о Груньке: у него же имеется своя собственная жена — маленькая очаровательная "фрау Аграфен"! И направился на кухню:
— Майн либер пюпхен! [11] — пошатываясь, вошёл Крюгель. — Я сегодня желайт иметь твоя любовь. Ну-ну, милый жёнка!
— Пошёл к чёрту, — сухо сказала Грунька. — Надрался, так иди дрыхни.
— Почему дрыхни? — обиделся Крюгель. — Я есть твой муж. Ты мой воробьишка.
— Отвяжись, тебе говорят! — рассердилась Грунька, а когда он попытался обнять, ловко увильнула к двери и, оказавшись в коридоре, выключила свет. В темноте Крюгель налетел на табуретку, грохнулся на пол и тут же захрапел.
Утром Крюгель как ни в чём не бывало выпил кринку парного молока, потом долго рассматривал в зеркало лиловую шишку на голове, поглаживал и угрюмо морщился. Не оборачиваясь вздохнул:
— Я уезжаю Германия, Грунька… Ты не поедешь, потому что ты есть плохой фрау. Зэр шлехт! Германии не надо плохой женщин.
— А я и не собираюсь, — сказала Грунька. — Что я там, фашистов не видала? Скатертью дорожка.
— Дура! — сердито, зло фыркнул Крюгель. — Отшень большой дура!
— От дурака слышу! — Грунька показала ему язык в зеркало и на всякий случай шмыгнула к порогу: а ну как в драку кинется?
Крюгель погрозил кулаком и стал крутить ручку телефона. Он сегодня почему-то не брился и на работу явно не собирался — наверно, решил прикинуться больным с похмелья, Грунька затаилась в коридоре, притихла: интересно послушать, что он будет врать по телефону?
Однако услышанное до того поразило Груньку, что она охнула и присела от изумления. Ганс Крюгель торжественным голосом кричал в трубку:
— Я, инженер Крюгель, больше не работайт! Я объявиль забастовка. Айн штрайк. Да, да, я всё понимайт. Это есть политическое недоверие ко мне. Поэтому я делай забастовка.
Повесив трубку, Крюгель довольно потёр руки и бодро гаркнул в коридор:
— Грунька! Давай-давай капуста — я буду опохмеляться. Чтобы лечить голова.
Допив вчерашнюю бутылку, Крюгель взял ведро и самолично принёс из речки воды. Ухмыляясь, приказал Груньке:
— Мыться пол — твоя профессия, фрау Аграфен. Бистро мыть на коридор! Давай-давай.
— Ещё чего! — насупилась Грунька. — Я вчера только мыла полы.
— Мыть, тебе говорят! — Крюгель пощёлкал пальцами перед её носом, подмигнул. — Это есть русский хитрость. Сейчас приедет начальство, который я не желайт принимать собственный дом.
Отказаться или спорить не имеет смысла, Грунька это видела по упрямо выпяченной губе инженера: теперь понесло, закусил удила, паразит, никакая сила его не остановит! Достав под крыльцом тряпку, она отправилась в коридор, а Крюгель стал готовиться к приёму гостей: начистил краги, снял галстук и расстегнул чуть не до пупа клетчатую рубаху, приняв таким образом донельзя независимый вид. Подумал и решил нацепить охотничью тирольскую шапочку с петушиным пером. После этого сел в палисаднике на скамейку, довольно посвистывая, взгромоздил на штакетник ноги в кованых ботинках.
В десятом часу к коттеджу подъехала выездная шиловская пролётка, подрессоренная, лёгкая, вроде извозчичьего шарабана. Вороной жеребец танцевал-хорохорился под дугой, грыз удила и картинно ронял пену. Впрочем, Ганс Крюгель даже не повернул головы, запрокинув бутылку, баловался боржомом.
Приезжие — начальник стройки Шилов и парткомовец Слетко, направились было к крыльцу, однако босая Грунька недвусмысленно взмахнула тряпкой: дескать, или не видите, мойка? И показала за угол, в палисадник: там он, туда и идите.
Рукопожатий и приветствий не было. Крюгель допил боржом, швырнул бутылку в кусты малинника и сказал:
— Я вас слушай.
— Нет, это мы вас слушаем, — хмуро произнёс Шилов, присаживаясь на противоположный край скамейки. Слетко потоптался, поискал глазами и решил сесть на камень-валун, предварительно положив на него свою замасленную кепку-кожанку.
— Зер гут! — сказал Крюгель и вздёрнул квадратный небритый подбородок. — Я требую сатисфакции по поводу мой допрос. Как иностранный специалист я заявляй протест. Вы говорить мне официальных извинений. В противный случай я разрывай контракт унд фаре нах Дойчлянд!
Слетко, изумлённо тараща глаза, заёрзал на камне, поправляя подложенную под зад кепку — валун здорово холодил, не камень, а глыба льда (не подхватить бы радикулит). Крюгель его прямо-таки поражал: ото ж, бисова душа, немчура, — це вона така, буржуазная дипломатия!
— Никаких сатисфакций не последует, герр Крюгель, — сухо улыбнулся Шилов. — То, что вы называете допросом, на самом деле было неофициальной беседой. В целях прояснения обстоятельств. Что касается вашего отъезда, то администрация не имеет никаких возражений. Можете спокойно уезжать.
Он притянул пальцами ветку чёрной смородины, полюбовался щедрым цветением — обильные будут гроздья осенью! — и сказал как бы между прочим, по-немецки, на берлинском диалекте:
— А вы, Крюгель, всё-таки не смогли обойтись без этого дешёвого фарса. Я имею в виду вашу "забастовку".
Крюгеля это почему-то смутило. Причём заметно — даже уши порозовели.
— Я действительно обижен… — произнёс он тоже по-немецки. — И переживаю это как незаслуженное унижение.
— Их глаубе дас нихт, — усмехнулся Шилов. — Абер дас ист нихт вихтиг![12]
— Одну хвылыночку, господа-товарищи! — неожиданно вмешался, подскочил с камня Слетко. — Не треба разговаривать по-немецки. Я лично мову Гитлера не терплю и не розумию. Как представитель парткома протестую.
— Извините, товарищ Слетко, — Шилов сожалеюще развёл руками. — Но господину Крюгелю некоторые вещи просто трудно растолковать по-русски.
— А чего ему толковать? Собрался уезжать — хай едет. Мы не держим.
— Я желаю иметь прощальный митинг! — Крюгель резко поднялся и картинно, как солдатскую каску, надвинул на лоб тирольку. — Я есть социалист-интернационалист и хотел бы держать речь перед советский рабочий класс. За единый рот фронт, за мировой социализм!
Шилов пожал плечами, многозначительно переглянулся со Слетко: инженер, дескать, несёт чепуху, но коль последовала официальная просьба, надо отвечать. И отвечать тебе, как заместителю парторга.
Слетко в раздумье прошёлся по дорожке, приблизился вплотную: глаза его оказались как раз напротив груди Крюгеля, выпяченной барабаном, торжественно напряжённой, будто изготовленной к принятию почётной медали.
— Не треба! — махнул рукой коротышка Слетко. Он хотел было напомнить инженеру, что тот недавно ведь отказался выступить на митинге по случаю подписки на Госзаём, да и подписываться отказался. Однако передумал: надо соблюдать дипломатию. — Нэма часу, времени нет, господин Крюгель. Вы сами говорили: конкретные дела лучше всяких слов. Отже, все мы надеемся на ваши конкретные революционные дела. Рот фронт!
Слетко бойко вздёрнул сжатый кулак и непонятно было: не то он поприветствовал-попрощался, не то погрозил перед самым носом Крюгелю.
После отъезда официальных гостей Ганс Крюгель, бледный от бешенства, убежал в дом: они выпроваживают его бесцеремонно, по-русски! Что ж, он будет прощаться тоже по-русски. Выставив из бара весь запас спиртного, он стал варганить сумасшедшие коктейли, мешая водку с коньяком, шампанским, плодоягодным вином и местным самогоном. После третьего стакана глаза его налились кровью, лысина взялась испариной и блестела, словно пасхальное яйцо, вынутое из лукового отвара.
Сначала ему не понравился радиоприёмник, гремевший бравурными песнями. Крюгель схватил его, распахнул окно и трахнул о камень-валун, на котором недавно сидел коротышка Слетко. Дребезг радиоламп вызвал у инженера приступ новой ярости, и он начал искать, что бы ещё могло задребезжать? В окно полетели пустые бутылки, потом керамическая ваза, патефон (этот почему-то не разбился).
Когда в гостиной ничего бьющегося не осталось, Крюгель вспомнил про кухонные полки, нашпигованные посудой — вот где можно развернуться! Через минуту на кухне стоял такой дребезг и хруст, будто туда, сокрушив стену, впёрся дорожный бульдозер.