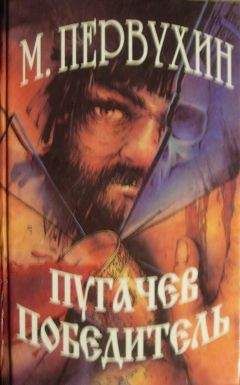Хлопуша в этом споре сторонился и явно колебался. С одной стороны, и он сознавал, что без постоянной армии, хорошо обученной, имеющей дельных и опытных офицеров, никак не обойтись, и на дикую, пьяную, буйную, кровожадную и трусливую ораву, которая называлась «храбрым войском его царского величества», смотрел с нескрываемым презрением. Ценил он только собственную «гвардию», почти сплошь состоявшую из острожников и сибирских варнаков, верховным главой которых был он сам, бывший острожник и варнак. А с другой стороны, он откровенно побаивался той регулярной армии, над созданием которой возился Минеев, потому что чуял в ней враждебную острожникам и варнакам силу. Главное, в нем говорила ненависть дикаря к человеку, который обладал многими знаниями, совершенно дикарю-каторжнику недоступными. Эти немудрые знания провинциального армейского офицера казались Хлопуше чем-то близким к колдовству. И Хлопуша, отказывавшийся верить в бога, совершенно искренно верил в дьявола и сдавал перед Минеевым, когда тот сумрачно говорил ему; « Ну, тебе, друже, этого не понять! Тут наука нужна!»
Но еще больше терялся бывший атаман грабителей с большой дороги перед стариком, князем Мышкиным-Мышецким, который и впрямь казался ему колдуном. Однако князь держался так, что в нем Хлопуша соперника себе не видел, тогда как Минеев, с которым Пугачев сдружился словно назло Хлопуше, и впрямь грозил оттереть каторжного «фельдмаршала», а потом, быть может, и уничтожить его. Хлопуша вот уже несколько месяцев обдумывал, как бы избавиться от ставшего опасным соперника. Оба зорко следили друг за другом, боялись и подстерегали друг друга на каждом шагу, старались обзавестись сторонниками, на помощь которых могли бы надеяться. Перевес пока был явно на стороне Хлопуши, потому что его поддерживало все племя Голобородек, стоявшее во главе могущественного «пафнутьевского согласия», а Пугачев давным-давно бы погиб, если бы «пафнутьевцы» не поддерживали его и средствами, и людьми. Но Минеев после взятия Казани породнился с другой старообрядческой семьей, немногим менее могущественной, чем Голобородьки, — с Чубаровыми. А связь Пугачева с голубоглазой Мариной Чубаровой делала его в некотором роде родственником «анпиратора» и укрепляла его положение. Но это же усиливало опасения сторонников Голобородек и озлобление Хлопуши. За последнее время Минеев все чаще и чаще начинал сознавать, что вокруг него чьими-то руками неустанно плетется паутина, за каждым его движением следят незримые соглядатаи и на каждом шагу он рискует попасть в какую-нибудь хитро устроенную ловушку. Сам «анпиратор» иной раз полушутя-полусерьезно предостерегал его, говоря многозначительно:
— Берегись, Бориско! Многие до шеи тваво благородия, то бишь, присходительства добираются. Оченно хочется комуй-то там шею тебе, как курчонку свернуть!
— Шея у меня не цыплячья: толстая! — отшучивался Минеев. — Авось не задавят... Лишь бы ты, государь, свою милость ко мне сохранил.
— Я что? Я, брат, вижу твое старание. Я к тебе во как милостив. Держись за меня, как вошь за кожух держится, все такое, а я тебя не выдам. Ну, только надо прямо сказать, «они» и без меня сварганить могут. Чуть ты, скажем, зазевался, глянь, они тебя, раба божьего, и подставили под обушок. Остерегайся, говорю...
Минеев отвечал, что он не из робких. Авось... Но в душе он сознавал, что опасность велика, и, действительно, остерегался. Он добыл тонкую стальную кольчугу и носил ее тайком под платьем, не снимая с себя ни днем, ни ночью. Боялся быть отравленным, и ради этого принимал всяческие меры предосторожности. Нигде не показывался в одиночку, брал с собой дюжих телохранителей из бывших царицыных гвардейцев, в преданность которых верил. Почти перестал пить, совершенно резонно считая, что пьяному человеку куда легче попасть в какую-нибудь ловушку. В то, что владычество «анпиратора» над Россией окажется долговременным, он и сейчас не верил. Наедине с самим собой, перебирая в памяти все разыгравшиеся события, он рассуждал так: «Поднялась чернь подлая, разыгралась вольница, взяла верх сволота всякая, голота шалая. Ну, и донесла до трона царского казачишку лукавого да пьяного на своем хребте. А только трон-то этот не из золота, а из грязи. Вот-вот развалится. Да и сам «анпиратор» — куда он в правители годится? Волк степной, бешеный. Лукавства, хитрости звериной уйма, а ума настоящего нету. Сам не знает, что делать надо. За свою шкуру сеченую опасается. Да и его генералы да адмиралы из бывших крепостных да казаков — таковы же. Зверье степное. И сейчас уже, только что добравшись до власти, друг дружке в горлянку зубами вцепляются. Случись что, сейчас голову потеряют и кто куда наутек. Только те до конца и останутся, кому, как Хлопуше, да его варнакам, да палачам добровольным, плахи не миновать и деваться некуда. Весь вопрос в том, сколько времени сия собачья свадьба продлится. Вот первое Смутное время, кажись, лет пятнадцать тянулось. Может, и наш пир на весь мир растянется. Только едва ли. Надо полагать, в три, много в четыре года сгорит вся Россия дочиста, а тогда колесо обратно повернет. И будет снова царь. Только не навозный царь, из грязи выползший, а настоящий, крепкий. И уляжется надолго смута, пойдет на дно вся поднятая пугачевцами муть, слизь вонючая.
Да и мой-то Емельян Иваныч сам не столь прочен: девки из него все соки вытянули, сивуха ему все нутро выжгла. Середка сгнила, оболочка только держится. Вон, раздувать его начало. Руки ходуном ходят, ноги трясутся. Только на коне и на человека похож — привычка сказывается. А ежели хватит его кондрашка, тут такая томаша опять заварится, что разлюли малина! Счастлив будет, кому ноги унести удастся.
Может быть и даже наверное, будут тогда и новые «Петры Федорычи» выскакивать, как дождевые пузыри на лужах. Как это было после смерти Отрепьева Гришки. Но это товар гнилой. Будут друг дружку загрызать без толку. Первый всегда покрупнее бывает, последний — помельче. Не такие клыкастые.
Вот, значит, и надо к этому готовиться. Но как?..
Не нужно было обладать особой наблюдательностью, чтобы подметить общее явление: все сплошь новоявленные «анпираторские сановники» тоже держались такого же мнения о непрочности установившегося порядка, не верили в возможность для Пугачева продержаться долго на царском троне, и каждый, как умел, «готовился» по-своему на случай возможного падения «анпиратора». Люди поделовитее, позапасливее, попредприимчивее торопились поскорее набить мошну и, едва представлялась первая удобная оказия, норовили улизнуть подальше. Утекали в Сибирь, где так легко спрятаться в непроходимых дебрях, убегали в Персию, в Турцию, в Польшу. Другие, боясь перебираться на чужбину, довольствовались тем, что хоронили награбленное у дворян и купцов добро в лесах, зарывали драгоценные вещи на огородах и даже на кладбищах. Третьи торопились попользоваться жизнью, не задумываясь над будущим: пили без просыпу, развратничали, бесновались, самодурствовали — и гибли от собственной невоздержанности сотнями каждый день.
Сем Минеев, обладавший известным образованием, «готовился» по способу первых: набивал, как мог, свою мошну и потихоньку скупал драгоценные камни, зашивая их в широкий замшевый пояс, который он носил на себе, под кольчугой. Рассчитывал, если только удастся уцелеть, найти случай сбежать и сбежать именно в Пруссию, где ему пришлось побывать в конце Семилетней войны под начальством Фермора и где жизнь, так хорошо налаженная, пришлась ему тогда по душе. «Проберусь к немцам, куплю где-нибудь мызу, женюсь на немке, — они, немки, хорошие хозяйки да и жены неплохие, не то, что наши кувалды. Заведу хозяйство, буду век доживать на покое!.. — мечтал он.
Иногда в свободные от службы часы Минеев подходил к стенному зеркалу, долго рассматривал себя, что-то соображая, потом сокрушенно мотал головой и бормотал: «Эх, и наградил же меня господь такой рожей! Очень уж приметная, харя проклятая. Ну, брови, конечно, вычернить можно, усы и бороду — тоже, либо сбрить. Да намного ли изменишься? Глаза — как две пуговицы оловянные. Нос луковицей. Шея как у бугая... Однако духа терять не следует. Авось, бог даст, черт поможет, ты, Борька, еще и выкрутишься. Надо только не зевать, не пропустить время удобное. А там — ноги в зубы, хвост по ветру — жарь во все лопатки. Лишь бы вырваться да успеть первые сто верст проскочить, а там — ищи ветра в поле, крота под землей...
В устроенном 25 декабря в кремлевском дворце пиршестве Минеев принял участие наряду с другими «сановниками», но, пользуясь удобным предлогом необходимости проверять караулы, умело избежал опьянения. Ему приходилось несколько раз показываться в залах, где шла дикая попойка, но он упорно уклонялся от приятелей, лезших к нему с приглашением выпить, и за весь длинный зимний вечер выпил только несколько стаканов вина и то по требованию приставшего к нему с ножом к горлу «анпиратора». Когда пиршество кончилось, и Минеев получил возможность удалиться на отдых в свою квартиру, он был почти трезв. Потребовал от заведывавшего его несложным хозяйством старика-денщика кислой капусты и квасу, отшибает хмель. Потом выкурил две или три трубки, отпустил денщика спать, запер за ним двери, но сам не сразу улегся: сначала вдоволь налюбовался полученной сегодня от «анпиратора» бриллиантовой звездой да купленной за сущий грош у раскутившегося варнака старинной турецкой саблей с бирюзой и рубинами на эфесе и тщательно обследовал найденную одним из камер-лакеев золотую с эмалью и алмазным шифром покойной императрицы табакерку, за которую он, Минеев, дал лакею червонец и пообещал дать еще сто плетей, если тот проболтается о сделке. Мысленно оценил свои сегодняшние приобретения: никак не меньше, чем на тысячу рублей золотом.