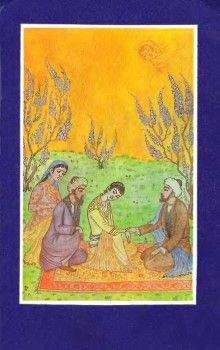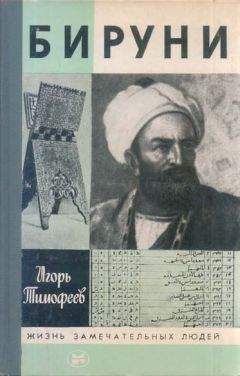— Хвала бесподобной находчивости великого Ибн Сины! — вместе воскликнули Абул Хасанак и Унсури.
Султан с трудом проговорил:
— Где же эти… красавицы? Куда их… задевали? — И вдруг взгляд упал на главного визиря. В подернутых туманом глазах мелькнула диковатая радость: — Ты уже вернулся, главный визирь? Уже привез эти… ягоды… для жеребца…
В зале наступила вдруг тишина, а потом из-за дверей послышался стук бубнов, звуки сетара и гиджака, смешки и повизгивания женщин. Даже нежный звон их украшений донесся сюда, в тишину.
Главный визирь (озноб до кончиков ногтей!) снова рухнул на колени:
— Покровитель правоверных! Простите, простите меня, грешного слугу!..
— Что? Что такое? Ага! Ты до сих пор не нашел… божественного плода? До сих пор копошишься здесь? Вон! Прочь из дворца!
Абул Хасанак быстро вскочил со своего места, пнул сообщника, распластанного по ковру:
— Прочь!
— Прочь!
А за дверями все радостней и слаженней звучала музыка, все стройней и веселей становился женский смех…
1
«В середине четвертой недели нашего пути — а не через три недели, как указывал эмир Масуд, — мы достигли к вечеру большого беката, последнего перед Газной. Нам сказали, что до Газны остался всего один переход — от утра до полдня, ежели выехать на рассвете, как мы обычно и делали на протяжении всего путешествия.
О праведники святые! Удивленья достойно, как мы выдержали! Ни днем ни ночью не слезали с лошадей! К счастью, весна помогала нам: по милости творца дни стояли теплые. Но долог был путь. И во время перехода через земли горцев Гури, по перевалам и глубоким ущельям, мы вконец измучились. Там были такие места, что кони вязли в снегу по брюхо. Если б нукеры, приданные шейху, не были столь крепки, а кони столь выносливы, то, возможно, тела наши уже занесло бы снегом, а души наши вознеслись бы в мир вечный, горний. Но, как говорится, одна половинка месяца темна, другая — светла. И это сущая правда. На долгом пути нам встречались и такие места, что их можно было сравнить разве что с раем: зеленые-зеленые луга, цветущие сады, бескрайние пастбища. В окрестностях Герата человек, неравнодушный к земной красоте, способен от восхищения потерять дар речи. В долине Богдис шумят сотни полноводных речек, с водой, прозрачной как стекло, травы на лугах меж ними — будто шелковые. Сады и виноградники, зеленые всходы на полях — все это вместе образует такое чудо, что дух захватывает. Всюду радующий глаз зеленый цвет, воздух прозрачен, птицы поют, и на каждом шагу — журчащие родники, с которыми, может быть, даже Хавзи Кавсар[83] не сравнится.
Выше я говорил о снежных горах страны Гури. О, преодолеть эти горы доставило нам вправду много труда и мук! Но нельзя и не сказать о том, что среди этих гор, упиравшихся в небеса, внизу меж ними раскинулся оазис, называемый Бамиян, — его можно уподобить опять-таки райской обители, не иначе. Долина в длину самое большее три-четыре фарсанга, в ширину примерно один фарсанг. Многоводная река мчится в этой долине-, по обеим берегам реки сплошь зеленые сады, густые и столь красивые, что тот, кто войдет в них раз, не захочет выйти оттуда ни разу. Персиковый сад переходит там в рощу финиковых пальм, а сия последняя — в рощу миндаля, а из розового пожара миндальных кустов и деревьев попадаешь в богатейшие виноградники. И везде поют соловьи, и порхают птицы с диковинным опереньем, а на верхушках высоких деревьев сидят аисты замечательной белизны.
И еще удивительное: на крутых скалах по обеим сторонам реки поставлены были, будто стеречь долину, две огромные фигуры Будды. (Шейх назвал: „Шакья-му-ни“ — и объяснил, что Будда „просветленный“ происходил из индийского племени шакьев.) Высота одной фигуры составляла самое меньшее сто газов[84], а второй — наверно, шестьдесят — семьдесят. В скалах было множество пещер, и стены их — мы увидели — расписаны очень красиво.
Словом, помимо дорожных мучений нам выпало увидеть в пути много удивительного и приятного.
Как утверждают, самые быстрые гонцы султана способны ежедневно покрывать расстояния в двадцать пять — тридцать фарсангов, так что из Газны в Исфахан добираются они не дольше чем за две недели. К резвому коню своему каждый в придачу берет еще одного доброго скакуна, ведет его в поводу: поочередно меняет гонец этих лошадей на перегонах от беката к бекату, а там на постоялых дворах стоят наготове особые кони для важных гонцов султана.
Нам были определены такие же условия. Всадники, уходившие из каравана раньше, на постоялых дворах ожидали нас наготове с новыми лошадьми. Доехав до бекатов, мы меняли своих, взмыленных и усталых. В некоторых областях султаната вместо лошадей используют быстроходных верблюдов. Шейх, оказывается, и прежде ездил на таких животных, я же не ездил на верблюдах никогда. Невероятным казалось мне поэтому, что ездовые верблюды способны обогнать самых лихих скакунов. На сей раз, однако, из-за пожилого своего возраста шейх плохо перенес езду на верблюдах. Да и без того длительная дорога изнурила шейха, хотя для шейха устроили особое кожаное сиденье вместо седла — пошире, поспокойней, наподобие кресла, а там, где дорога была спокойней, он ехал в повозке. Старость не преодолеешь даже сильной волей: наставник изрядно измаялся в путешествии. К тому же к телесным его мучениям добавились страдания душевные. Вправду говорят, что слишком много людей в этом подлунном мире за добро платят злом. Неужто сей недалекий, эмир Масуд, исцеленный шейхом, не мог позволить ему побыть хоть немного дома, в Исфахане, хотя бы узнать, жив ли младший брат шейха Абу Махмуд? Нет, эмир торопился, он не разрешил шейху ни с братом повидаться, ни с той невольницей из Бухары, брошенной в зиндан из-за того якобы, что она налила ртуть в ухо эмира!
До сих пор не могу понять, что за тайна здесь скрыта. Знаю лишь, что шейх тяжело переживал жестокость и обман эмира, не выполнившего своих обещаний. Всю ночь перед нашим выездом из Исфахана шейх не сомкнул глаз, всю ночь прошагал по тесной каморке, нам отведенной. А на рассвете, в сопровождении десяти всадников, мы уже выехали из города. На безлюдных улицах видели все те же зловещие знаки чумы, все тех же, в черных повязках на лицах, собирателей трупов. Переехав мост Пули Сангин, мы повернули направо, к мечети Куни Гунбаз, а за мечетью опять показалось нам на миг огромное здание библиотеки Хисар, — точнее, стены ее без купола да высокие закоптелые порталы. Там, за библиотекой, был его дом и двор!.. Но опять пучеглазый, длинноусый мушриф, увидев, что шейх остановился, подъехал ближе и, ни слова не говоря, ударил плетью несколько раз по крупу его коня. Шейх тоже не сказал ни слова. Целую неделю ехал, будто воды в рот набрал. Лишь в стране горцев Гури лицо его чуть просветлело. Но и тогда шейх молчал. Разговаривал только со мной и только ночью на стоянках, когда мы разводили костры, чтобы немного передохнуть и погреться, перед тем как помолиться и отойти ко сну.
Ежедневно мы проезжали путь не менее чем в двадцать фарсангов, я думаю. А молва людская обгоняла караван! И в любом месте, где бы мы ни останавливались, нас ожидали люди, больные и немощные. Откуда они узнавали о шейхе, от кого — одному аллаху известно. Плача и стеная, бросались они шейху в ноги, просили избавления. Нукеры били и гнали их прочь, они оставались. И тогда шейх жестом утихомиривал нукеров, принимался смотреть больных.
Шейх не знал ни отдыха, ни покоя. Не было немощных, так он на стоянках отправлялся за разными травами или наблюдал птиц и зверей. Мне он рассказывал иногда по вечерам — в час редкого спокойного настроения — о том, как возникают горы и ущелья, учил читать раскрытую книгу камня, песка и глины. Даже в трудной этой дороге он думал о будущих произведениях!
Такова его натура! Даже в крепости Фарадж, куда его ввергли злоба и наветы врагов, он был занят чтением и размышлением. Я бывал у него в заточении. Помнится, начальником крепости был Ибн Якзон. Старец на редкость справедливый и благочестивый. Он отвел для шейха самую просторную и самую тихую комнату в крепости, снабжал бумагой и перьями. Каждое утро я приходил к шейху. Расхаживая по комнате, он диктовал, я записывал. За четыре месяца заточения шейх закончил несколько своих произведений… Тут были повествования, много стихов, размышления о музыке, исследование фигур логики. Позже шейх смеялся: „Поистине — нет худа без добра. Не попади я в крепость, возможно, ничего не написал бы“.
Так-то оно так, но когда шейх попал в крепость Фарадж, он в то время был еще полон сил. Не то теперь. Шейх ослаб от страданий своих — видимых мне и, наверно, неведомых мне. Его душу грызла какая-то боль, о которой он никому не говорил. Может быть, о боли этой, о тайной тоске знал Шокалон, но Шокалон остался в Исфахане. Сколько ни просил шейх эмира, не разрешил он шейху взять Шокалона с собой.