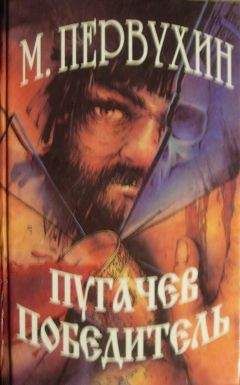— Мелете вы и сами не знаете, что! — рассердился Пугачев.
— Верно твое слово, батюшка, царь белай! Ах, сколько верно ты говоришь! А только разные знамения проявляются. Орловский архиерей, которого башкиры твои зарубили в соборе, по ночам из могилы выходит. Страшной такой! Весь в крови... А в руках крест-золот... А кто ему на дороге попадет, тому он, убиенный башкирцами, говорит: «Молитесь, нечестивцы, а то грядет на вас сила несметная!..
— Бабьи сказки одни!
— Тебе знать лучше, твое пресветлое царское велиство! А только верные люди сказывали. Опять же в Саратове-городе мещанка, бочарова жена, разродилась зверушкой рогатою да хвостатою... Будто не от мужа-бочара, а от самого нечистого духа... А это дело конец света предвещает. Опять же где-то сам с неба камень накаленный упал, как гора. И был с того камня глас...
— Пошли вон, дураки! — рассердился «анпиратор». Он вскочил и затопал ногами.
— Ав-ва-ва...
Толпу мужиков словно ветром сдуло.
— Лошадей! — крикнул срывающимся голосом Пугачев. — Водки!
Опять по покрытому укатанным снегом тракту скакали сломя голову гайдуки, сгонявшие с дороги едущих и идущих плетями и неистовым криком, за ними неслись казаки в алых чекменях, за казаками летели гуськом сани царского поезда.
Сзади, замыкая шествие, нестройной гурьбой валили башкиры и киргизы на своих разномастных лошадях. И казаки, и башкиры, и киргизы были уже не те, с которыми «анпиратор» утром покинул Москву, и даже не те, которые их сменили на одной из первых остановок: масти конвоя были заблаговременно высланы вперед и сменяли друг друга с таким расчетом, что каждой отдельной части приходилось, сопровождая поезд, пробегать не больше двадцати или двадцати пяти верст. Многие кони не выдерживали сумасшедшей гонки и падали по дороге.
С самого утра день был ясный: на небе — ни тучки, ни облачка. Весело обливая лучами укутанную пышным снеговым покровом землю, катилось зимнее холодное солнышко. Держался порядочный мороз. Но уже вскоре после полудня с запада стали показываться тучки. Померк, потом и совсем исчез огненный шар солнца, потонув в облаках. Потеплело, повеяло теплом с запада, откуда плыли, подгоняя одна другую, серые тучки. Рано смерклось. А поезд все мчался и мчался.
Вдоль того пути, по которому еще предстояло пройти, стали загораться заранее заготовленные огромные костры, служившие как бы маяками. Появились и вершники со смоляными факелами, лихо скакавшие впереди поезда и по бокам. У костров, мимо которых проплывали сани и кареты на полозьях, копошились толпы крестьян, согнанных для встречи «анпиратора». Но теперь они уже не оглашали ночной воздух криками «ура!» в честь «Петра Федорыча»: эти нестройные мужицкие крики надоели помрачневшему Пугачеву после первых же встреч, и по его приказанию Творогов с одной из остановок выслал конных гонцов оповестить встречных, что разрешается только снимать шапки да бить поклоны, не утруждая слуха его пресветлого царского величества своим мужицким криком.
Строгий приказ был выполнен. Толпившиеся у придорожных костров верноподданные «анпиратора» срывали с себя треухи и становились на колени, как только вблизи показывались мчавшиеся с гиканьем передовые гайдуки со смоляными факелами, а когда налетали казаки в алых чекменях с длинными пиками, мужики принимались отбивать поклоны. Почти все крестились.
Когда поезд исчезал в ночной мгле, у медленно догоравших костров долго еще оставались кучки людей.
В одном из сел, верстах в сорока от Раздольного, для «анпиратора» был приготовлен ужин. Но Пугачев закобенился. С трудом согласился он войти в избу, где стояли столы с яствами и питиями, выпил несколько чарок водки, вяло пожевал ломоть пирога с начинкой «на четыре угла», запил стаканом сладкого вина и поднялся.
— Едем, Бориска! — сказал он Минееву. — Скучно чтой-то… Надоело все это... Ну его к ляду…
— Едем — так едем! А с ужином как же быть?
— А так и быть! Кто из енаралов да министров жрать хочет, пущай жрет. Нагонят нас опосля. А не нагонят, так беда не велика. Вон, которые уж отстали по дороге. Ну их всех к шуту. Надоело мне с ними валандаться, хуже горькой редьки... Едем!
Они уехали. Огромный хвост спутников, оторвался, задержавшись, чтобы поужинать. Но сани, в которых сидели по привычке прикрывавший рукавицей свое изуродованное лицо угрюмый Хлопуша, расстроенный «анпираторской» немилостью и старавшийся бодриться, яицкий казак и лихой конокрад Творогов, ставший теперь «министром двора», и другие сани, в которых о чем-то сердито говорили Прокопий и Юшка Голобородьки, увязались за санями Пугачева
Увидев это, Пугачев скривил губы и, мотнув головой, вымолвил:
— Дядьки мои. За малолеточком присматривают, чтобы он, малолеточек, ножку себе не зашиб ненароком альбо глазок не запорошил чем... А мне этот надзор колом поперек горла стоит!
— Ты — царь! Хочешь, так и прогнать можешь!
— Прого-онишь их, как же! — невесело засмеялся «анпиратор» — Куда их прогнать-то? Смутьянов этих? Нельзя их прогонять: опасно. Народ против меня взбулгачить могут. Оченно просто!
Минеев пожал плечами, но промолчал.
— А ты как бы с ними поступил? — спросил Пугачев минуту спустя.
Минеев развел руками.
— Не знаю, право... Трудно мне себя на твое место поставить...
— То-то и есть, — пробормотал Пугачев. — Прицепилась они, Голобородьки всякие, к моим ногам да к рукам, облепили меня и ходу мне не дают. А чует мое сердце, тянут они меня гуртом в пропасть. Вот-вот гуркнем все туда, в пропасть-то! Слышал, что мужичье-сволочье балакает? Светопреставление, мол, идет. Бочарова жена в Саратове чертячьего младенца нечистого выродила. А еще какой-то там камень с неба. Опять же убиенный архиерей... Я его убивал что ли? Али приказ мой такой был, чтобы убивать? Да я еще в Казани строго приказал: которых даже дворянского звания, ежели только сопротивления не оказывают, не резать здря! Так разве сволоту в руках удержишь? Она, сволота, как зверь дикой: покуда в клетке сидела, покуда и вреди мало было, только вонь одна звериная. А вырвалась из клетки — и почала зубы пробовать да так разгулялась-разыгралась, что ни кого ни попадя бросается да в клочья рвет. В Кашире давно ли бунт был? А против кого? Сами, дуболомы, властей над собой поставили, а потом перебили. А калуцкий полк чего в том месяце наделал? Я их, калуцких, в свою анпираторскую гвардию записал, кажному солдатишке по рублю серебром отсыпал, а они с чего-то сдурели да своих же выборных командиров до последнего человека на штыки подняли, а которых в огонь живыми побросали. Город на шарап взяли. Обывателев сколько перекрошили... Говорю, сущие волки! А почнешь их наказывать, как следовает, потому они, подлецы, всю державу разворошить могут, так они орать начинают, что, мол, какая же это в сам-деле слобода? Вот ты и подумай, делай что полезное с таким зверьем двуногим...
Помолчав, Пугачев снова заговорил, словно беседуя с самим собой:
— Не пойму чтой-то никак, как и что... Вон Лизавета, тетка моя, баба-сладкоежка, двадцать лет на троне сидела. Путалась с хохлом своим, сладкопевцем, с Разумовским, да с Шуваловыми, да с кем-то там еще. А о делах и думки у нее не было: баба, так она баба и есть! А ничего, управлялась. Опять же, Катька моя благоверная. Ну, эта не дура, положим: хитрая немка. А все же — баба. Однако, ничего, гладко шло. А вот у нас с тобой, удалых добрых молодцев, все как-то коряво выходит...
— Утрясется...
— Утрясется ли? Все вы мне твердите для успокоения, что, мол, утрясется... А на мой взгляд растрясывается все с каждым днем. На первых порах: даже оно будто и лучше было, яснее как-то. Господ по боку, земля крестьянству, всякая слобода, крестись хошь двумя, хошь тремя перстами, хошь всею пятерней, торгуй кажный, кто чем хочет. Суды всякие по боку. Начальства тебе никакого: выборные. Ну, гладко было в мыслях. А дошло до дела, кат его знает, что и выходит. Расквасили мы большой горшок, а слепить новый не того... Не выходит... Ай ошибка вышла? Ай не с того конца начали? Не так надо было дело варганить? Да что ты молчишь, Борька?
— А что мне говорить-то? — непочтительным тоном сказал Минеев. — Я одно знаю: снявши голову, по волосам не плачут. Попали в передрягу, ну, надо вывертываться.
— А вывернемся ли? Нет, ты по чистой совести! Напрямки. Я, брат, правду-матку люблю. Бояться тебе нечего. Говори откровенно, что думаешь...
— Набирай армию, государь! Регулярную армию, настоящую. Чтобы дисциплина была прямо-таки железная. Как при Петре Первом. Офицеров подбирай. Настоящих, чтобы солдата в руках держали. Закон крепкий поставь. Предавай смертной казни каждого, кто провинится. Петр-то, твой прадед, своею рукой ослушникам головы рубил... Грабителей — на виселицу. Разбойников — на кол сажай. Ворам руки руби.
— Вона! — засмеялся невесело «анпиратор». — А кто тогда в живых ходить будет? Эх, не показывается мне что-то... Коряво, коряво выходит. Тогда только и на сердце легко, когда выпьешь да какой-нибудь гладкой девке под бочок подкатишься...