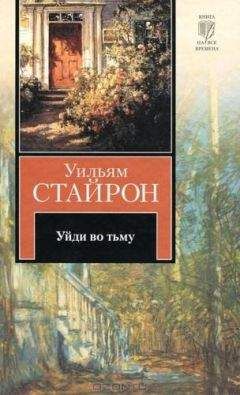Она схватила Настёнку на руки и опрометью бросилась прочь. Никто не посмел ее удержать.
I! только когда, добежав до края запруды, она кинулась вниз и, пробив молодой ледок, исчезла под водою, стоявшие безмолвно люди очнулись и ринулись вслед.
Достали обеих. Мать мертвою, Настёпку откачали.
В один час Настёнка стала круглой сиротой.
…Враз все оборвалось и перевернулось в ее жизни.
Вместо светлого детства — горькое сиротство, Вместо отца и матери — ворчливый опекун дед Евстигней и его болезненная жена тетка Глафира. Вместо чистенького нарядного домика на широкой улице — подслеповатая, вросшая в землю избенка в конце косого проулка.
Уже много лет спустя, когда подросла, узнала Настя, кто и как определил ей опекуна.
Помощник управляющего заводом немец Тирст позвал на совет полицейского пристава и попа. Сказал им:
— Надобно в опекуны приискать человека смирного и богобоязненного. Покойный Матвей был отличный мастер, но подвержен вольнодумству. И женка ему под стать была.
— С хулою на устах отошла к престолу всевышнего, — с льстивой поспешностью подтвердил поп.
Выбор пал на старого охотника Евстигнея, поставлявшего дичь и грибы к господскому столу.
Хотя и были высказаны некоторые сомнения:
— Привержен к зелью, — сказал пристав.
— Замечал, — согласился Тирст, — но в любом виде почтения к старшим не теряет.
— Пьян, да умен, два угодья в нем, — поддакнул поп.
На том и порешили.
Тогда же Настя узнала и про то, кто погнал Матвея Скуратова на верную гибель, заставив починять водяное колесо на ходу. Все тот же Тирст. Управляющий заводом капитан Трескин, возвратясь из Иркутска, куда ездил он на доклад к генерал–губернатору, и узнав о прискорбном происшествии, весьма гневался на Тирста и даже рапорт на него подавал. Впрочем, последствий особых для Тирста по рапорту тому не последовало.
Дед Евстигней, определенный Настёнке в опекуны, был человек не злой, но вздорный, ни к какому путному делу не приспособленный.
— Не вышло из мужика ни работника, ни охотника, — говорили про Евстигнея соседи.
Но все ж на две кухни — капитана Трескина и титулярного советника Тирста — успевал поставлять птицу: уток, рябчиков, тетеревов, также грибы и ягоды.
По распоряжению Тирста Евстигнею отпускался провиант, как и прочим мастеровым: муки по пуду на самого и по тридцать фунтов на женку в месяц и соли по двадцать фунтов в год на каждого. Сверх того за доставленную птицу платили по копейке за штуку, да еще перепадало от Тирста на «чаек» за подобострастные низкие поклоны, которые Евстигней отвешивал со сладкой улыбочкой при каждой встрече. Кланялись Тирсту и все прочие, но с улыбочкой никто. За то и отличал Тирст старика. За то и жаловал на «чаек».
За малым остатком, все добытое Евстигнеем и поклонами, и охотничьим промыслом, уплывало в руки целовальнику казенной лавки. Допьяна дед Евстигней не напивался, но и трезвым редко бывал.
Женка его, Глафира, смирилась с невеселой своей судьбой. Да, по совести сказать, на лучшую она и не рассчитывала. С детских лет болезненная и тощая, она к тому же и лицом не удалась, — и осталась от всех ровесниц старой девкой, вековухой. И когда нежданно вдруг посватался Евстигней, не посмотрела на облитую сединой бороду и на вздорный нрав — согласилась.
Настёнку Глафира приняла хорошо. Хоть и малолетка, а все помощница и по дому, и по огороду. Сама Глафира часто по два, по три дня лежала пластом, и тогда в неубранной замусоренной избе было совсем неприглядно.
Да и по натуре Глафира была не сварлива.
К Аргуновым Настёнка перестала ходить. Сперва некогда было: копала картошку, которую хворая Глафира не успела убрать вовремя. А когда через несколько дней пришла во флигелек, чиновница взглянула на ее замызганное платьишко (новое, в котором мать отправляла Настёнку к Аргуновым, Глафира спрятала в сундук: «Праздничное. Неча каждый день трепать») и, брезгливо поморщась, сказала:
— Ты что же, милая? День — ходишь, неделю — нет. Эдак от тебя одна помеха.
На том и закончилось Настёнкино ученье.
…Четырнадцатый год ей пошел, когда дед Евстигней в первый раз взял с собой на охоту.
— Надумал, старый лешак! — ворчала Глафира. — Долго ли до греха. Потеряется дите в тайге.
— Не потеряюсь, тетечка Глаша, ей–богу, не потеряюсь, — упрашивала Настёнка. — Я следочек в следочек за дедупей пойду.
— Не то встретится кто! Долго ли до греха!
— Кто и–нас тронет, т–тот три д–дни и–не проживет, — петушился дед, как всегда, малость заикаясь. — Две г–головы — и–не одна г–голова.
: — То‑то две. Старый да малый.
Что старыйверно, а малый? — это как сказать. Настёнка глянула на тетку Глафиру сверху вниз и улыбнулась. Была она не по годам рослая, примерно на голову выше тщедушной Глафиры. И не хлипкая, как стебелек, гнущийся под колоском, а ладная, крепко сбитая. Слободские парни уже начали на нее поглядывать. Может, потому и опасалась тетка Глафира отпускать ее в лес?.. Но тогда Настёнке эго было еще невдомек.
Настёнка вернулась из лесу сама не своя. Ходила но двору задумчивая, на вопросы тетки Глафиры отвечала невпопад… Вот она какая, тайга!.. Это совсем не го, что собирать ягоды на опушке пли ходить по грибы в ближний березняк.
И всю ночь бродила она по простроченной золотом и пламенем осенней тайге.
Проснулась рано и первым делом спросила:
— Сегодня пойдем в лес, дедуня?
Глафира снова заворчала:
— Дома делов не переделать. Лук надо вытаскать, посушить, в плети повязать.
— Все сделаю, тетенька Глаша. К обеду все сделаю. А после обода пойдем.
— Да что ты, — господи, прости меня, грешную, — замест собачонки ему? — рассердилась Глафира.
И тогда Настёнка решительно сказала:
— Купи мне ружье, дедуня. Я с тобой охотиться буду.
Глафира только руками всплеснула.
— А что? — не очень смело вступился дед Евстигней. — И–и д–дело говорят. М–мне помога. Я уж т–того, считай, отохотился. Глаза и–не ге. и–намеднн в кочку з–замест утки палил.
— Бабье ли это дело, старый?
— Да она покуль и и–не баба, — уже поняв, что сопротивления Глафпры ненадолго, отшучивался дед.
Где ж было Глафире выстоять одной против двоих!
— Развяжи м–мошну, доставай д–деньгу! — скомандовал дед.
— Вот–вот, — запричитала Глафира, — опять за приданым потянулся.
— Не бойсь, не бойсь. и–не пропью. Евстигней д–дело знает. и–наперед купить, и–потом копыта обмыть. Доставай, и–не тяни время.
Вздыхая и причитая, полезла Глафира в подполье. Достала надежно припрятанный кисет. В кисете лежали Настёнкины деньги, выплаченные заводской конторой за скуратовский домик.
Настёнка запомнила, как дед Евстягней ввалился в избенку, ошалелый от радости, и, крепко зажав деньга в кулаке, потрясал ими, похваляясь, словно его трудами они добыты.
Глафира немедля отобрала деньги у Евстиснея.
— Это девке на приданое. И не тяня лапу.
— Д–дак ведь ко–опыта обмыть, — убеждал Евстигней.
— Не твой конь, не тебе и копыта мыть, — отрезала Глафира и не дала ни полушки.
Не раз покушался Евстягней на заветный кисет, но Глафира не поддавалась.
В первый раз уступила.
Евстигней вытребовал у Глафиры еще иголку, новую, недержаную, и пошли покупать ружье в заводскую лавку.
Вот когда Настёнка преисполнилась почтения к дедуне. Все покупатели, сколько их было в лавке, обступили Евстигиея.
— Энтот выберет!
— Ну–кось, покажь, дед, науку!
Ружей в лавке было более десятка. Матово поблескивая обильно смазанными стволами, стояли они в деревянных гнездах. У Настёнки даже дух перехватило. Подумать только: одно из этих ружей будет ее собственное!
Сперва дед Евстигней прибросил каждое ружье на вес, отобрал четыре самых легких и выложил их рядком на прилавок. Потом взял одно из них и подал Настёнке.
— Держи эдак! — И показал, как держать: одной рукой за конец ствола, другой за ложе, курком вверх.
Руки у Настёнки дрожали от нетерпеливого волнения.
— Не трясись! — прикрикнул Евстигней.
Достал из кармана завернутую в тряпицу иглу и осторожно уложил ее повдоль ствола, перед тем помуслив его.
Иголка не скатилась, лежала плотно.
— Добро! — сказал Евстигней и, ухватись правою рукой на изворот за шейку ложи, стал медленно поворачивать ружье так, что конец ствола описал в воздухе полный круг.
Настёнка и все прочие следили за действиями Евстигиея. затаив дыхание.
Иголка, хорошо заметная на темной поверхности ствола, держалась плотно, как приклеенная.
— Добро! — повторил Евстигней, закончив оборот, и сказал Настёнке: — Сымн иглу!
Такой же прием Евстигней повторил с остальными ружьями. Но из трех только одно удержало иглу на полном обороте.