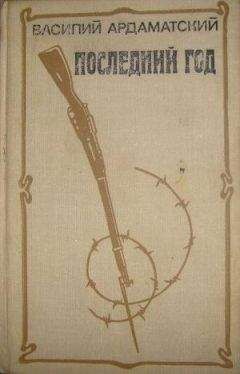— Но разве корабль уже тонет? — поднял густые брови посол.
— Боюсь, сэр, что, как установлено, крысы всегда чувствуют беду первыми.
— Гм… крысы, — задумчиво усмехаясь, произнес Бьюкенен и вдруг, откинувшись на спинку кресла, спросил строго и требовательно — Назовите, кто именно?
— Грубин, — твердо ответил Грюсс и, заглянув в лежавший на столе блокнот, продолжал — Набутов, Крашенинников, Соловьев, Пахомов.
— Это не крысы, а мыши, — прервал его Бьюкенен.
— Грубин, сэр, не мышь, — продолжал Грюсс, смело смотря на посла. — Этот средний коммерсант опаснее иных крупных финансовых тузов. Все, что я узнал о нем за последнее время, только утвердило меня в прежнем мнении. Грубин — крупная закулисная фигура и явно немецкой ориентации. Более того, я по-прежнему думаю, что он агент Германии. Он не только изъял из банка свои ценности, но он отправил за границу жену. Вы, слава богу, дали мне в отношении Грубина карт-бланш. Позвольте же действовать здесь до конца и не отвлекаться на всякие слухи.
— Вы говорили, что Грубин стоит за спиной Мануса. Что же делает сейчас сам Манус? — спросил Бьюкенен.
— Манус — явление чисто российское, сэр. Он слишком крепко впрягся в тройку императрица — Протопопов — Распутин и, очевидно, как и они, полагает, что ничего страшного, а тем более катастрофического для них произойти не может. Вспомним письмо императрицы, о котором я вам докладывал, оно ведь полно уверенности, что все в порядке и что все к лучшему.
Бьюкенен долго молчал, смотря мимо Грюсса и поглаживая согнутым пальцем свои пушистые белые усы. И вдруг спросил:
— А что Юсупов?
— По-моему, и это блеф. Когда люди затевают подобное дело, они о нем не говорят на всех перекрестках. У Распутина охрана — сам министр внутренних дел, сама царица, и я не допускаю, чтобы угрозы Юсупова не достигли их ушей. Ну а главное — что это дает нам?
— У роковой тройки не станет своего снятого, — легко, почти шутливо произнес Бьюкенен и, откинув голову, закрыл глаза… Еще раньше, когда он в первый раз услышал об угрозе Юсупова убить Распутина, это вызвало у него брезгливое отвращение: типичная азиатчина в политике. А теперь он хватается за это со смутной надеждой, что это принесет какое-то улучшение. Однако говорить об этом с Грюссом, пожалуй, не стоит, он же давно сказал, что Распутин — это несерьезная карта в большой игре.
Они долго молчали. Бьюкенен так и сидел с закрытыми глазами, а Грюсс смотрел на него удивленно и чуть насмешливо.
— Можно мне, сэр, высказать одну идею? — спросил Грюсс. Бьюкенен открыл серые умные глаза.
— …Конечно, я, может быть, и ошибаюсь, сэр, но бегству крыс я придаю огромное значение, вижу в нем огромную опасность. Если ко всему, что происходит, прибавится еще финансовая паника, на союзной нам России можно поставить крест. И я предлагаю эту панику… предусмотреть.
— Каким образом? — поинтересовался посол.
— Нанести удар по первым бегущим крысам, — ответил Грюсс. — Начать с устранения Грубина, пока он еще не исчез.
— Вас смутили лавры Юсупова?
— Нет, сэр. Я считаю Грубина поважнее Распутина. Посмотрите, сэр… Он главный советник банкира Мануса. Почему же он именно сейчас, когда Манус и компания в своей деятельности достигли апогея, решает уйти с арены?
— Да, почему? И почему не бегут Манус и другие? — спросил Бьюкенен.
— Да потому, сэр, что в отличие от Грубина их корни здесь и они запасаются золотом, полагая, что с ним можно будет начать дела и в аду. Но то, что они запасаются золотом, еще один сигнал о начинающейся панике в финансовом мире, этом последнем устое государства…
— Как же вы собираетесь предотвратить панику? — спросил Бьюкенен после долгого молчания и снова закрыл глаза. Все, что говорил Грюсс, было похоже на правду, но признать это вслух он был не в силах и ждал, что Грюсс, развивая свою мысль, даст ему повод для возражений. Нельзя же ему оказаться в положении, когда он должен верить одному Грюесу?..
— Это сделают русские патриоты, которые тоже все это понимают и готовы принять меры. Мы уже говорили с вами о них, сэр.
Бьюкенен не шевельнулся, не открыл глаза. Он прекрасно знает, что имеет в виду Грюсс, решает — пусть Грюсс делает все, что хочет, на свою ответственность.
— Они сейчас наблюдают за Грубиным, — продолжал Грюсс, — и в нужный момент его… устранят. И придадут этому акту широкую гласность. Петроград и вся страна узнают, чем этот акт вызван, и это будет предупреждением всем, кто пытается стать на путь измены России. Это станет примером для других…
— Я в подобных делах профан, — поставил точку Бьюкенен и встал — Кроме того, мне по должности не положено вдаваться в дела вашей службы. Меня интересует только то, что связано с политикой и войной. Благодарю вас за информацию…
Бьюкенен не спеша вышел из комнаты. Грюсс проводил его взглядом и, когда дверь закрылась, сказал негромко:
— Вы уже ни черта не понимаете… сэр.
Генерал-майор Дмитрий Николаевич Дубенский уже четыре месяца безвыездно находился в Ставке, готовил очередные выпуски «Летописи войны». Когда его перевели сюда из генштаба, он страшно возгордился — значит же, была кем-то наверху замечена его благонамеренная приверженность к истории. Шутка сказать — работать рядом с царем, в главной его Ставке. Но вскоре выяснилось, что здесь его попросту не замечают, тут же, куда ни повернись, увидишь сразу трех генералов. А работы невпроворот…
Его официальная должность была — летописец царского поезда, и он был обязан во время поездок царя вести камер-фурьер-ский журнал и на этом материале выпускать еженедельные деся-тистраничные журналы «Летопись войны». Но царь ездил все реже, и теперь его поезд курсировал главным образом между Ставкой и Царским Селом, а в эти рейсы его не брали. Недавно на него возложили еще и наблюдение за изданием иллюстрированных альбомов «Великая война в образах и картинах». Очень не по душе ему эти альбомы, у него по-прежнему неодолимый зуд к сочинительству. Работы над ними без конца, и чуть не по каждому неприятности: то напечатали портрет не того генерала, какого надо, то дали неточную подпись под снимком. Весь день он крутится с этими изданиями, и у него нет времени заниматься своим любимым детищем — выходящей в Петрограде газетой «Русское чтение», а в ней недавно напечатали бог знает что про политику. Он написал резкое письмо редактору Русакову, а тот ответил, что, если газета не будет откликаться на нужды общества, она потеряет последних подписчиков, а редакция уже сейчас тратит последние остатки правительственной ссуды… Нынешней политики Дубенский так боится, что решил от греха подальше в скором времени газету закрыть — она стала опасной и марает его имя.
В этот вечер он уже собирался уйти домой, как прибежал посыльный — его срочно просили явиться в оперативный отдел. Убрав со стола бумаги и заперев их в железный шкаф, Дмитрий Николаевич одернул свой мешковатый китель и, тяжело вздохнув, отправился к оперативникам. Ходить туда он не любил, там война чувствовалась особенно близкой, а именно там говорили о ней цинично, иногда прямо бесстыдно. Кроме того, штаб-офицеры любили подтрунивать над ним и над его работой. Хотя бы к возрасту имели почтение, как-никак через год шестьдесят стукнет, так нет же, не щадят… Особенно едко глумился над ним штабс-капитан Лемке…
В просторной комнате, как обычно, стрекотали, щелкали установленные вдоль стен телеграфные аппараты ЮЗа, с которых ползли в плетеные коробки бесконечные бумажные ленты. Офицеры, сидевшие за огромным столом, прочитывали ленты, резали их и наклеивали на листы твердой синей бумаги. Этой комнаты Дубенский опасался еще и потому, что сюда в любую минуту мог выйти из своего кабинета генерал Алексеев, которого он так боялся, что при виде его терял дар речи…
Только он вошел и комнату, тут как тут главный злослов и ерник Лемке:
— Простите великодушно, Дмитрий Николаевич, что оторвали вас от сверхважной для отчизны работы. Но нам тут случайно и с большим запозданием попалось в руки ваше живописное издание… вот оно — одиннадцатый выпуск, — он открыл альбом на середине… — Вот, посмотрите, сделайте нам одолжение… — Другие офицеры подошли к ним, обступили со всех сторон. Оглянувшись на них, Лемке продолжал своим въедливым голосом — Вы тут решили мощно поддержать наш Кавказский фронт. Правда, несколько спустя после драки, ибо люди с нормальной памятью уже забыли, что такое Эрзерум. Ну ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но мы тут растревожились: как бы великий князь Николай Николаевич не призвал бы вас к ответу вот за эти фотоснимочки. Смотрите! Что на этом снимке? Ясно виден один пулемет. Один. Пулемет. Так? А в подписи под снимком сказано — «часть турецких орудий, захваченных в Эрзеруме». Где же тут орудия? Может, их заслонили вот эти стоящие плотно казаки в папахах? Но тогда это надо было пояснить… — Офицеры рассмеялись. Дубенский слепо смотрел на снимок, весь сжался и молчал — возразить ему было нечего… А Лемке перелистнул страницу и продолжал — А тут еще похлеще. Смотрите. На снимке явно дровяной склад, а точнее сказать — груда жердей, которые при желании можно пересчитать. А что в подписи? Читаем: «Подсчет военной добычи, захваченной нашими войсками». Ай-яй-яй, Дмитрий Николаевич, как же это вы такого не заметили? А если это заметит великий князь? Он же понимает, что за этими жердями в такие далекие дали лезть ему было совсем необязательно, таких жердей можно было, и главное — без потерь, нарубить под Рязанью…