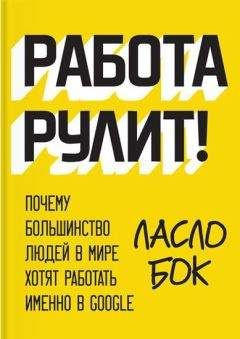Анна Берсенева
Опыт нелюбви
Вот он лежит у Киры на плече и читает ее книгу.
«Он уверен, что меня это ничуть не угнетает. То есть он вообще об этом не думает. Для него это такая ерунда, о которой и подумать даже невозможно. Он на генетическом уровне уверен, что это совершенно нормально: лежать на плече у незнакомой женщины и читать книгу, которую читает она. И дышать при этом чесноком ей в ухо».
Кира попыталась отстраниться, но это привело лишь к тому, что чесночный запах ударил ей уже не в ухо, а прямо в нос. Она захлопнула книгу, чуть ее при этом не выронив, и задвигала плечами, пытаясь вывинтиться из толпы поближе к выходу из вагона. Там, впрочем, толпа была еще плотнее. Час пик, ничего не поделаешь.
«Час утренних пик», – подумала Кира, почувствовав, как в бок ей, вот именно что пикой, впивается чей-то острый локоть.
Словесная игра как была, так и осталась ее привычкой, хотя никакой необходимости в такой игре у нее давно уже не было. И в таких словах, которые давали бы возможность игры, необходимости не было тоже: и в работе, и в жизни Кира вполне могла обходиться самым незамысловатым набором слов. Так уж сложилась и работа ее, и жизнь.
Книжка все-таки выпала у нее из рук, да еще в неподходящем месте – прямо на выходе из вагона. Проклиная собственную неуклюжесть и обычное свое невезение, Кира присела на корточки и принялась вылавливать книжку из-под чужих ног, из разливов грязи на мраморном полу. Досада ее усиливалась еще и от того, что книжка была – Диккенс, «Оливер Твист», и в глазах любого человека это должно было значить, что она дура не только неуклюжая, но еще и сентиментальная, и хоть это неправда, но кому будешь объяснять.
Но вообще-то из-за содержания книжки переживать, наверное, не стоило. Кому дело, Диккенса ты читаешь или журнал «Лиза»; тут и до тебя самой-то никому дела нет.
Пешком на работу надо ходить, вот что. Тогда и чесноком в лицо дышать не будут, и грязную книжку в сумку запихивать не придется.
Но при мысли, что пришлось бы тащиться пешком от Малой Бронной до Китай-города – ветер в лицо бьет, мокрый снег лепит сверху, а в жиже из этого снега вязнут ноги, – Кира решила, что проще обтереть книжку рекламной листовкой, которую на выходе из метро она взяла у замерзшего негра в мокрой ушанке. Листовка приглашала на курсы английского. Это было Кире ни к чему – английский она еще в школе выучила в совершенстве.
С такими вот пустыми и за пустяки цепляющимися мыслями шла она от метро к Ильинке, к Старопанскому переулку. Пока дошла, снег облепил ее так, что она стала похожа на снежную бабу. У самого входа в дом Аршинова Кира вдобавок вступила в лужу, и нога у нее промокла до колена. Получается, можно было и от самого дома пешком идти – ну, была бы снежная баба чуть потолще, и не одна нога была бы мокрая, а обе.
Кира всегда и вслух, и про себя называла место своей работы только так – дом Аршинова. Если уж сама по себе работа у нее убогая и унылая, то хотя бы проходят ее трудовые будни в красивом здании, которое молодой Шехтель сто лет назад построил для купеческой конторы. И хоть интерьеры в этом здании за советское время сделались такие, что тоска берет от одного их вида, да и за десять с лишком послесоветских лет ничего здесь не изменилось, но все-таки, входя в свою комнату, берешься за ту же дверную ручку, за которую, может, и Савва Морозов когда-то брался. Говорят, здесь не то он сам работал, не то его мамаша; подробностей Кира не знала, а уточнить было не у кого.
Она доехала на лифте до последнего этажа и по железной узкой лестнице поднялась еще выше, в комнату под крышей, где и проходили ее труды и дни.
Чайник уже вскипел, и чай был заварен. В отличие от Кириных, все действия Матильды были правильными и производились в правильную минуту. И, конечно, первое, что та сделала, придя на работу в гадостную, с неожиданным снегом октябрьскую погоду, это заварила свежий чай. К чаю имелись также и булочки – когда Кира вошла, Матильда разогревала их в микроволновке, и по комнате разносился запах свежей сдобы.
– Еще есть варенье, – сообщила Матильда. – Абрикосовое.
Она стояла к двери спиной и сказала про варенье не оборачиваясь и не здороваясь. Это происходило не от невоспитанности – с воспитанием у Матильды было все в порядке, – а от ее особенного, ни у кого больше Кирой не виданного способа жить.
Матильда жила одним сплошным, не имеющим ни начала, ни конца потоком; казалось, даже сон его не прерывает. Кира считала себя цельной личностью, но ее цельность выражалась самым обычным образом – ну, например, она никогда не меняла своего мнения по принципиальным вопросам. Матильда же была в своей цельности органична как кошка, и даже не просто как кошка, а как кошка экзотическая, и проявления ее цельности тоже были экзотическими. Потому она и начинала разговор в понедельник утром так, словно никаких выходных не было и общение ее с коллегами не прерывалось ни на минуту.
– Привет, – поздоровалась Кира. Что поделаешь, она-то человек обыкновенный, и обычное поведение для нее так же естественно, как для Матильды необычное. – Если бы не ты, наша жизнь была бы неуютна и убога. На работе, во всяком случае.
«И не на работе тоже», – мельком подумала она.
– Работа не волк. – Матильда повернула Кирины слова и мысли в то русло, которое считала правильным. – Раздевайся, чаю попьем.
Когда Кира в десятом классе ездила по обмену в Америку, то из множества американских привычек больше всего понравились ей те, что были связаны с многообразными устоями жизни. Куки-джар, то есть, попросту говоря, что-то среднее между большой стеклянной банкой и вазой для домашнего печенья – без этого в Америке невозможно представить себе семью. Или большая толстостенная чашка, из которой пьют чай на работе, – без нее там в новый коллектив прийти неприлично.
Хоть Москва не Америка, но Кира пришла в издательство «Транспорт» с чашкой, которую ей отдали в журнале «Struktur» после чьей-то рекламной кампании, и чай теперь пила всегда из нее, а не из отвратительного советского сервиза в розовеньких цветочках, который использовался остальными обитателями комнаты.
Кира повесила в шкаф пальто, а из другой половинки шкафа достала свою чашку и налила в нее чай – по своему обыкновению, одну заварку, не разбавленную кипятком.
– Чай какой-то странный, – заметила она. – Слишком хороший.
– Не слишком, – объяснила Матильда. – Просто он английский. Непосредственно из города Лондона.
– Ого! А к нам как попал?
– Обыкновенно, – пожала плечами Матильда. – Парикмахерша моя привезла и мне подарила.
Даже это у нее не как у других! Другие дарят привезенный из Лондона чай парикмахершам и прочим нужным людям, а Матильде эти нужные люди сами делают подарки. Конечно, клиент – человек не лишний, но, судя по эффектной Матильдиной прическе – рваная челка, стильная непринужденность общей линии, – клиентов у ее парикмахерши должно быть немало, и если есть среди них редакторы, то уж точно из каких-нибудь более завидных изданий, чем замшелое издательство «Транспорт», непонятным образом уцелевшее за десять лет, прошедших после советской власти. Конечно, Матильда в этом тухлом отстойнике случайная птица, и, не будь она матерью-одиночкой с соответствующими трудовыми ограничениями, давно уже нашла бы более занимательную работу. Но пока она есть то, что есть, и стильным парикмахершам нет никаких причин добиваться ее расположения. Однако все дело в том, что есть женщины, которые даже в нищете держатся королевами, и благосклонности их добиваются все, хоть мужчины, хоть вот парикмахерши, и Матильда как раз из таких женщин. А Кира – как раз не из таких.