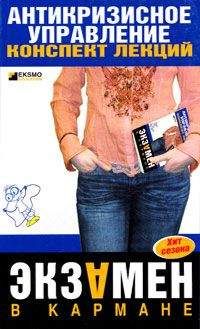– Ага. Цветок душистых прерий, значит… Колокольчикова просто умрет от счастья, когда узнает, кто она есть такая … – пробурчал себе под нос Петька, выходя из кухни.
– А что, я бы и умерла, например, – вздохнув, тихо, совсем тихо произнесла Василиса, собирая посуду со стола и поворачиваясь к мойке – этой ненавистной посудной мойке, за которой ей завтра придется стоять в кафе у Сергунчика с самого утра и до самой поздней ночи…
– Васенька, ты не забыла, что отца вашего послезавтра помянуть нужно? Господи, неужели два года уже прошло? – грустно вздохнула Ольга Андреевна, глядя ей в спину. – Надо бы вам с Петечкой на кладбище съездить…
– Нет, бабушка, Конечно же, не забыла. Обязательно съездим…
Тряский старый автобус долго вез их на окраину города, и они заранее уже и перемерзли все, и сидели, прижимаясь друг другу сиротливо. К тому же Василисе отчаянно хотелось спать – предыдущая ночь выдалась совсем уж тяжелой. И кто это придумал вообще такое – свадьбы в кафе отмечать… Да еще и с купеческим размахом, с пьянством, с мерзко-воющей и визгливой музыкой сильно подвыпившего доморощенного квартета молодых бездарностей, важно именующих себя претенциозным именем «Дедушка Фрейд»… Какой там, к черту, дедушка… Если б была возможность у этого бедного дедушки послушать их одну хотя бы секундочку, он бы быстренько про свой психоанализ забыл да схватился за седую умную голову от ужаса…
Автобус наконец добрался до конечной остановки и, развернувшись, остановился, будто с облегчением даже, будто сам себе удивился – неужели таки дополз до последнего пункта, где можно отдохнуть-отстояться с полчасика хоть. Петька с Василисой да еще вместе с двумя какими-то пожилыми тетками в грустных черных платочках вышли из его дверей и под возмущенное карканье огромного скопища ворон, кружащих над голыми почти деревьями, направились к воротам кладбища, ежась от холода и втягивая головы в воротники курток. Что ж это за октябрь выдался нынче холодный такой, на удивление просто. Как зимой морозит. Всю душевную багряно-золотую красоту осени своим холодом испоганил…
Еще издалека они заметили у отцовской могильной плиты человека какого-то, сидящего к ним спиной на маленьком раскладном стульчике, и переглянулись нерешительно. Обернулся вскоре и человек на их шаги, и улыбнулся им приветливо, и рукой махнул – идите, идите сюда быстрее…
– Вась, да это же Вениамин Алексеич! Дядя Веня, здравствуйте! – радостно бросился к нему Петька. – И вы тоже про папу вспомнили, да?
– Ну, вашего папу я никогда не забуду, ребятки… – с грустью ответил Вениамин Алексеевич, бывший отцовский сотрудник, или соратник, или правая его рука, или как там еще называют близких, доверенных, проверенных обстоятельствами общего дела людей. Он и в самом деле был всегда правой рукой отца, был старше его намного, а потому хитрее и прозорливее, и умело заправлял в фирме всеми финансами и бухгалтерией. Только вот после случившейся трагедии исчез куда-то и на похороны не пришел. Хотя на допросы потом ходил исправно – Василиса сама слышала, как следователь об этом бабушке говорил…
Подойдя ближе, она с удивлением начала рассматривать этого когда-то красивого, несмотря на свой возраст, всегда подтянутого и презентабельного мужчину. Она его совсем, совсем не узнавала – старик и старик сидел перед ней на жалком, игрушечном каком-то раскладном стульчике; пегие седые волосы его неровными клочками торчали над головой, лицо было, как у пьющего, бледным и отечным, и будто болезненно-влажным, как сырая картофелина на свежем срезе, нижние веки провисли под глазами некрасивыми дряблыми мешочками. Одежда на нем была дешевой, но очень чистенькой и аккуратной: стрелки брюк были наглажены до бритвенной остроты, из ворота скромной, явно купленной на распродаже курточки выглядывал наглухо застегнутый твердый воротничок белоснежной сорочки. Прямо на могильной плите перед Вениамином Алексеевичем стояла едва початая бутылка водки да на старой газетке была разложена скромная поминальная еда, от вида которой Василисе стало совсем уж грустно: пожухлые перья зеленого лука накрывали собой куски толсто и некрасиво нарезанного сала, а кусочки черствого белого хлеба как-то очень уж сиротливо прилепились к основательно помятым помидорам. Жалкой помятостью своей бедные помидоры отчего-то и навевали неизбывную эту тоску, и сразу захотелось заплакать, зарыдать в голос о своем неуютном сиротстве…
– Ну что ж, давайте-ка для начала помянем вашего батюшку, ребятки, царствие ему небесное… – потянулся к бутылке Вениамин Алексеевич и разлил мерзко пахнущее ее содержимое в два граненых стаканчика, один из которых уважительно протянул Василисе. Она взяла его в руки нерешительно, подержала, будто примериваясь, потом испуганно подняла на него монгольские свои глаза:
– Ой, я же не умею, Вениамин Алексеевич… Я же ни разу в жизни водки не пила…
– Вот и плохо, что не умеешь, Василиса. В жизни надо все уметь делать. Оно, умение-то, всякое тебе пригодится.
– Ой, ну не знаю… Боюсь я…
Она робко взглянула на отцовскую фотографию, выпуклым овалом вставленную в могильную плиту, словно спрашивала у него совета. Он, как обычно, улыбался ей любяще, и показалось даже, одобрял ее будто. Петька, наблюдая за ее мучениями да за дрожащей от холода рукой, держащей на весу граненый стаканчик, вдруг проговорил не по-мальчишески жестко и решительно:
– Дядь Вень, так может, я это сделаю, а? Раз так надо… Я ж мужик все-таки. А с нее, с девчонки, что возьмешь…
– Нет уж, Петро, – усмехнулся грустно ему в ответ Вениамин Алексеевич и взглянул уважительно, – ты хоть и мужик, конечно, только недозрелый еще. Нельзя тебе. Хотя и молодец, заступился за сеструху… Ничего-ничего, пусть выпьет. Смотри, аж посинела вся, и руки дрожат…
– Да она устала просто…
Василиса, решившись, закрыла глаза и поднесла стаканчик к губам, и глотнула из него порядочную порцию, и закашлялась, конечно же, и торопливо схватилась за протянутый ей Вениамином Алексеевичем кусок хлеба с толстым салом. Старательно жуя и тараща узкие глаза, вскоре уже отдышалась и с удивлением начала ощущать разливающееся по желудку блаженное тепло, будто все расправлялось у нее внутри, оживало и потихоньку согревалось, а потом показалось даже, будто кто-то подошел сзади и ласково-играючи ударил по затылку, отчего голова чуть закружилась и стала совсем легкой, как перышко. И в то же время состояние это настораживало, казалось ей обманным каким-то, легким таким коварным враньем, а вранья она сроду не любила. Но что делать – надо так надо. И отец вон как смотрит, будто действительно одобряет, что она его так по-взрослому помянула…