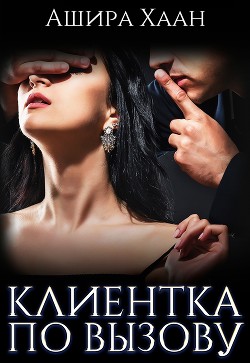наручниками, стискиваются еще чуть сильнее. Это уже больно, это может закончиться синяками, но мне хочется, чтобы он сжал их еще.
Сжал, накрыл своей тяжестью, не дал вырваться. Присвоил и не отпустил.
— Ты сейчас поедешь домой, — роняю слова в темноту, трусь о его висок. — Тебе надо будет как-то все объяснять. Не лучшее время, чтобы пахнуть… мной.
Пальцы медленно разжимаются, оставляя меня с таким острым чувством покинутости, что хочется кричать в голос.
— Ты права, — говорит Герман в голос, и после нашего шепота, звук взрывает сжавшийся в одну точку мир.
Меня отстраняют, мимолетно коснувшись талии.
В кабинете загорается яркий свет, Герман проходит мимо стола, бросая взгляд на телефон на нем и садится в широкое кожаное кресло у окна, кивая мне на соседнее. Оно на безопасном расстоянии — между ними столик с подносом, на котором стоят чашки из тонкого фарфора с цветочным рисунком, вытянутый в высоту чайник с изящной ручкой, трехъярусная подставка для пирожных. Сахарница с щипцами, бликующие серебристые ложечки.
И композиция из белых орхидей с красной сердцевинкой.
У него в офисе всегда стоят орхидеи.
Теперь я знаю, кто придумал их с Полиной свадьбу.
Я сажусь в другое кресло, надясь, что мы сможем поговорить спокойно — но очень хорошо помню, как разлетаются осколки чашек, размазываются по ковру пирожные и отчаянно пахнут умирающей травой сломанные орхидеи.
Между нами не бывает безопасного расстояния.
— Что она увидела? Какое сообщение? — пальцы Германа сплетены в замок, обнимают колено закинутой на ногу ноги, и я смотрю на его руки и не могу оторваться — как всегда. Он не носит обручальное кольцо, вообще не носит никаких украшений — только дорогие часы и строгие запонки.
— Не знаю, — качаю я головой, глядя только на его пальцы. — Какое-то невинное, но все равно подозрительное.
— И все? Только его?
— Открыла весь диалог и прочитала дальше.
— И поняла.
— Да.
Чувствую себя виноватой, словно это я позволила себе лишнее, и потому наша тайна раскрыта. Хотя именно я настояла, что буду общаться с ним только с пустой страницы, где закрыт профиль и нет никаких данных. Ни фотографий, ни музыки, ни статусов, по которым внимательный и достаточно умный человек смог бы рассказать нашу историю с начала до конца.
Но ведь это мое сообщение разбудило той ночью Полину.
Хотя если бы кто-то брал телефон с собой в кабинет, ничего бы не случилось!
Я ругаюсь сама с собой в голове, участие Германа мне для этого не нужно.
Он никогда не выясняет, кто виноват, он всегда начинает решать проблему с этапа «что делать».
И мне сейчас очень страшно.
Потому что я понятия не имею, что он будет делать.
— Бросишь меня? — спрашиваю сама, чтобы не тянуть больше время и сразу услышать приговор. — Снова?
Тогда. И что ты предлагаешь?
В детстве я любила лето. Яркое теплое лето — каникулы у бабушки, доедаешь свою кашу, засовываешь в карман бутерброд с сыром и уматываешь на целый день с такими же балбесами. На речку, в лес, в поля. На родник за рощей, в заброшенный пионерский лагерь в сосновом бору или на нашу «тайную поляну», где ближе к вечеру и съедаешь помятый бутерброд, пока в костре запекается картошка.
Когда школа закончилась, а на вопрос об отпуске начальство стало отвечать «в гробу отдохнешь», я стала любить весну. Сумасшедший взрыв чувств, пробуждение после зимнего оцепенения — в унисон с природой. У нее журчат ручьи — у тебя в голове бедлам, у нее повылазили из травы белые и фиолетовые крокусы и желтые одуванчики — и у тебя яркие платья, у нее орут ночами коты — и у тебя свидание за свиданием, вечеринки и танцы, наполняющие силами, которых хватает на всю рабочую неделю.
После тридцати, с появлением семьи и надежной работы, я полюбила спокойную тихую осень. Сентябрь-октябрь — золотые листья, мерный шум дождя, под который так сладко засыпать в обнимку с Игорем, завтраки на светлой кухне, когда все в сборе. И есть время и силы, чтобы приготовить мужу яичницу с беконом и жареными помидорами, Никите блинчики, Макару вафли, себе — овсянку с голубикой.
Разумеется, дети тут же обменялись едой, потому что успели передумать за то время, что я готовила, но я научилась относиться к этому философски. Лишь бы мою голубику не отнимали. Но они пока довольствовались бананами и шоколадной пастой.
— Игореш, я в воскресенье поеду с девчонками отвозить корм в приют, ты с разбойниками побудешь или няню вызывать? — поинтересовалась я у мужа, как обычно, уткнувшегося с утра в планшет.
— Угу, — невпопад ответил он, но тут же включился: — Кто вас повезет?
— Андрей.
— Какой Андрей? — строго сдвинул брови, изображая ревнивого мавра. Даже планшет отложил. Макар с Никитой захихикали и во все глаза уставились на папу — что он еще отколет?
Я не могла не подыграть:
— Такой… Андрей. Высокий светловолосый богатырь!
— Мам, а разве богатырей зовут Андреями? — голосом «попалась, мамочка!» спросил Макар.
— Да, мам, богатырь это Алеша Попович! — добавил Никита.
— Или Добр-р-р-рыня Никитич! — не забыл козырнуть свежедобытой у логопеда четкой «р» Макар.
— Или…
— Машкин муж, — уточнила я, пока дети не вспомнили, что бывают тридцать три богатыря и не стали выяснять, как их всех зовут. — Ты же отказался.
— Я не отказывался, — буркнул Игорь. — Отвезу. Его колымага опыть застрянет там.
— Спасибо, я рада. Даже если ты будешь делать это с таким лицом! — Просияла я, встала, чмокнула его в щеку и принялась собирать тарелки. — Разбойники, марш одеваться!
— С каким лицом? Опять вашей тухлятиной вся машина провоняет… — Игорь глянул на часы и начал уничтожать яичницу в ускоренном темпе. — Вот на кой тебе эти бездомные псины, Лан?
— Если не я, то кто, — пожала я плечами, складывая в посудомойку тарелки. — Мы это уже обсуждали. У тебя хобби — покатушки твои, у меня — собаки.
— Это не хобби, это сублимация. Ты не заметила, что у тебя там среди волонтерок одни бабы?
— Игорь! — я резко обернулась, попытавшись метнуть взглядом молнию.
Но как всегда — не вышло. Он поднял ладони вверх, сдаваясь, и проворчал:
— Женщины, женщины… Какая