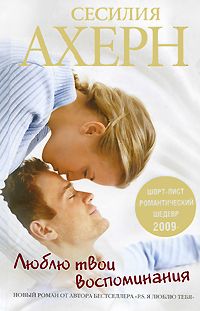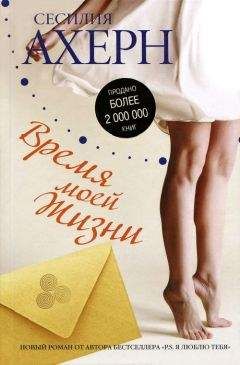– Во мне она была живая, – сказала мама священнику, и мне кажется, ему это не понравилось. Ему вроде бы противно было думать, что внутри женщины могло находиться что-то живое. Но она поступила по-своему, попрощалась у могилы со своей дочкой. День был серый, холодный, дождь шел не переставая. У меня ботинки промокли насквозь, с носками, ноги онемели. Потом я весь день чихал, нос заложило, а братья толкали меня, чтоб перестал храпеть, и всю ночь меня бросало из жара в холод, я то дрожал, то потел, мерз, когда потел, а когда дрожал, мне вдруг становилось жарко. И кошмары: будто папа дерется с Мэтти, а отец Мерфи орет на меня, что-то про мертвых младенцев, и сильно бьет, а братья украли мои шарики, а мама вся в черном и воет от горя. Но это уже было по правде.
И хотя мне кажется, будто кожа у меня горит и все вокруг плывет, я не хочу звать маму. Лежу, ворочаюсь, порой плачу тихонько, потому что мне так плохо и все болит. Мама принесла мне утром вареное яйцо и положила мокрую тряпку на лоб. Она посидела со мной, вся в черном, живот еще не опал, и кажется, будто младенец по-прежнему там. Она смотрела прямо перед собой и ничего не говорила. Немножко похоже на то, какой она была, когда умер папа, но и по-другому: на папу она сердилась, а теперь просто горюет.
Обычно мама не сидит на месте. Все время убирает, стирает подгузники Бобби, моет весь дом, вытряхивает коврики и простыни, готовит, подает на стол. Никогда не останавливается, все время носится, мы путаемся у нее под ногами, она раздвигает нас в стороны коленями и бедрами, словно идет по полю, а мы сорняки. Время от времени она распрямляется, хватается за спину и стонет – и снова за работу. Но сейчас в доме тихо, очень непривычно. Мы всегда орем, деремся, хохочем, болтаем, даже ночью, то малыш заплачет, то мама ему что-то напевает или Мэтти возвращается пьяный, натыкается на мебель и бранится. Я слышал то, чего никогда прежде не слышал: потрескивание полов, гудение труб, – но ни звука от мамы. Это меня испугало.
Я вылез из кровати, ноги дрожали и подгибались, словно я разучился ходить, на лестнице мне пришлось цепляться за перила, ступеньки трещали под моими босыми ногами, пока я спускался. Я вышел в гостиную – это была маленькая комната в задней части дома, как будто спохватились и пристроили в последний момент. Мамы там не было. И в кухне не было. И в саду. Я снова заглянул в гостиную и уже повернул прочь, но тут заметил ее – черное платье в кресле, которое стояло в дальнем углу, обычно там Мэтти располагался. Она сидела так тихо, что я не сразу и разглядел. Сидела и смотрела в пустоту, глаза красные, как будто со вчерашнего дня так и не переставала плакать. Никогда не видел ее такой неподвижной. И не помню, чтобы мы когда-нибудь оставались вдвоем, только она и я. Никогда мама не была вот так совсем моей. И от этого я занервничал – что сказать маме, когда рядом никого нет, никто не услышит, не увидит, не станет меня дразнить, задирать, подначивать? Что я скажу маме сейчас, когда обращаюсь к ней не за тем, чтобы утереть нос кому-то из братьев, не чтобы на кого-то пожаловаться? Как я узнаю, правильно ли я поступил, если рядом нет братьев – я всегда мог догадаться по их лицам.
Я хотел уже уйти, но тут вспомнил что-то, о чем хотел спросить, и спросить мог только наедине, пока никого больше не было.
– Привет, – сказал я.
Она оглянулась, словно бы с испугом, потом улыбнулась:
– Доброе утро, милый. Как голова? Хочешь еще попить?
– Нет, спасибо.
Она снова улыбнулась.
– Я хотел тебя кое о чем спросить, если можно.
Она поманила меня к себе, я подошел совсем близко и остановился, стал в смущении крутить пальцами.
– Ну, что такое? – ласково поторопила она.
– Как ты думаешь – она теперь с папой?
Она растерялась – глаза снова наполнились слезами, слова не давались. Я подумал: будь тут ребята, я бы не задал такой глупый вопрос. Вот я взял и опять ее расстроил, а ведь Мэтти велел нам остерегаться и не делать этого. Надо поскорее выпутаться, пока она не заорала на меня или, хуже того, не расплакалась.
– Я знаю, он не ее папа, но он любил тебя, а ты ее мама. И он любил детей. Я не очень хорошо его помню, но это я помню. Его зеленые глаза, и как он все время возился с нами. Играл в догонялки. Боролся. Помню, как он смеялся. Он был худой, а руки большие. Другие папы с детьми не играют, вот почему я знаю, что ему нравилось возиться с нами. Я думаю, она теперь на небе, и он там присмотрит за ней, так что ты можешь за нее не волноваться.
– Ох, Фергюс, мой хороший! – сказала она и распахнула мне объятия, а слезы так и текли. – Иди сюда, маленький.
Я вошел в ее распахнутые руки, и она так крепко обняла меня, что я почти перестал дышать, но боялся сказать ей об этом. Она раскачивала меня и приговаривала: «Мой мальчик, мой мальчик», много раз, так что я подумал, может быть, я все-таки сказал что-то правильное.
Когда она меня отпустила, я спросил:
– Можно еще вопрос?
– Да, – кивнула мама.
– Почему ты назвала ее Викторией?
Снова ее лицо сморщилось от горя, но она справилась с собой, даже улыбнулась.
– Я никому об этом не говорила.
– Ой, прости.
– Нет, дружок, все в порядке, просто никто не спрашивал. Садись ко мне. Я тебе расскажу. – И, хотя я для этого уже слишком большой, я забрался к ней на колени – полпопы на кресле, половинка у нее на коленях.
– С ней я чувствовала себя по-другому. Живот другой. Я сказала Мэтти: я точно слива. И он сказал: хорошо, назовем ее Слива.
– Слива! – рассмеялся я.
Она кивнула и опять утерла слезы.
– Тогда я вспомнила сад моей бабушки. Мы ездили к ней – я, Шейла и Пэдди. У нее были яблони, груши, черная смородина и два сливовых дерева. Я любила сливы, потому что бабушка только о них и говорила. Мне кажется, она только о них и думала, чтоб они не взяли над ней верх. – Мама рассмеялась, и я вторил ей, хотя не понял шутки. – Мне кажется, она считала эти деревья экзотичными, и они придавали экзотичности ей, хотя она была простая, самая простая женщина, ничем не лучше любого из нас. Она пекла пироги со сливами, и я любила ей помогать. Мы каждый год попадали к ней на мой день рождения, так что мой именинный пирог – сливовый.
– Мм, – облизнулся я. – Никогда не ел сливовый.
– И правда, – сказала она, словно удивившись. – Я никогда вам сливовый не пекла. В основном она выращивала опаловые сливы, но на них надежда плохая, потому что зимой снегири склевывают все почки. Они дочиста обдирали ветки, и наша бабушка с ума сходила, гонялась за ними по саду, размахивая скатертью. Иногда она заставляла нас целый день стоять под деревьями и отгонять птиц. Я, Шейла и Пэдди торчали там вместо пугал.