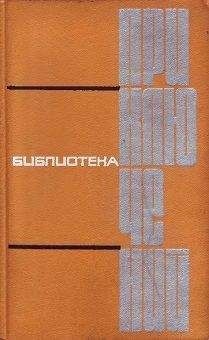Как раз в эту минуту открылась парадная дверь и появилась Дорин, наша приходящая служанка, и первое, что она сказала, было, конечно же, "Бодрый у вас сегодня вид. Наверно, хорошо выспались после вчерашнего".
— Я всю ночь читал.
— Как, и спать не ложились?
— Сейчас лягу.
— А миссис Сара Луиза встала?
— Нет еще. Она вчера совсем измоталась, и девочки тоже пришли поздно. Пусть поспят, сегодня ведь суббота.
— Начну с серебра. — У Дорин был выходной, но вечером у нас должны были быть гости, и она пришла помочь. — Да, вид у вас точно бодрый!
А я и был бодрый — ведь я только что провел шесть часов с друзьями. Ложась в постель и слушая глубокое дыхание Сары Луизы, я спросил себя, когда я в последний раз встречал людей, которые значили бы для меня так много, как эти персонажи книги? Очень давно. Зачем же я гонюсь за призраком прошлого, где были мои друзья, если друзья стали чужими, а прошлое ушло навсегда? Почему не обращаюсь к тем друзьям, которые не переменились, которые, когда они тебе нужны, всегда являются такими, какими ты их помнишь? В воскресенье я опять отправился в кабинет. На этот раз я оказался в другом университете, в Принстоне, в компании Эмори Блейна. Это был ранний Скотт Фитцджеральд, и там было много вещей, которые потом у него получались лучше, но книжка тронула меня до самой глубины души. Я начал проводить в кабинете каждый вечер. Прочитав всего Фитцджеральда и Во, я взялся за Диккенса, Теккерея, Стендаля, Толстого, Чехова и Бунина. Я был так счастлив, как уже давно не бывал. Кончив "Смерть Ивана Ильича", я понял, что все больше и больше отдаляюсь от людей. Раньше, если я что-то делал, я делал это вместе с кем-нибудь еще, но то, что я делал сейчас, я делал один. Какое-то время это даже вызывало во мне беспокойство, но потом я подумал: что я теряю? Университетскую футбольную команду, кое-как перебивающуюся очередной сезон; взрослых мужчин, озабоченных ударами слева; банк, которому я отдал все силы и который меня совершенно не интересовал, как, впрочем, и я его; женщин, с которыми я спал и чьи мысли были где-то невероятно далеко; чужих мне людей, которых я изо всех сил пытался представить друзьями-товарищами. Я вспомнил все это — и потянулся за новой книжкой.
И это мое прозрение привело меня к Богу.
Главное, что я узнал о религии за много лет, это что в ней нельзя заходить слишком далеко — ни в ту, ни в другую сторону. Всякий раз, когда я отклонялся от середины, я потом рано или поздно об этом жалел. На втором курсе, наслушавшись неких юнцов-евангелистов из Принстона, я примкнул к этому течению у себя в университете и ходил, изображая из себя чуть ли не самого Иоанна Крестителя. После того как в Монтеррее я перешел в лоно епископальной церкви, я пытался жить по Библии. Еще несколько раз, движимый побуждением изменить свое безнравственное поведение, я начинал жить жизнью духовной. Вспоминая об этих религиозных порывах и о том, что случалось впоследствии, я всегда приходил в великое смущение. Но что можно сказать о тех случаях, когда я, стремясь руководствоваться здравым смыслом, начинал выявлять погрешности в положениях веры? В Нашвилле я потерпел неудачу и в этом. И в университете, и позже я несколько раз сталкивался с яростной реакцией фундаменталистов. У них глаза огнем горели, когда я говорил, что, может быть, в Библии сказано не все, что, возможно, другие верования не хуже их веры, что Бог может услышать и язычника. Впечатление было такое, будто я привожу им цитаты из "Коммунистического манифеста". Со временем я усвоил: людям не нравятся ни фанатики, ни скептики; люди хотят, чтобы ты плыл по главному руслу. Учтя это, я догреб до этого самого русла и так там и остался. Никто никогда не слышал, чтобы я пел Богу дифирамбы, но никто и никогда не слышал, чтобы я сомневался в Нем. Я уделял часть своего времени работе в церковном финансовом комитете, но в вопросах веры старался не высовываться.
Чем больше я читал, тем чаще возвращался к Ивлину Во, Грэму Грину и Уокеру Перси. Что мне нравилось в их книгах? Наверно, то, что их персонажами были павшие католики, которые, поняв изъяны своей веры, продолжали держаться за нее. Не находился ли я в том же самом положении? В конце концов, мы, принадлежавшие епископальной церкви, тоже считали себя католиками, а томиться духом в Нашвилле можно с тем же успехом, что и в Англии, в Африке или в Новом Орлеане. Некоторое время, приходя в церковь на утреннюю службу, я чувствовал себя персонажем какого-то романа. Я наслаждался красотой обрядов и тихонько про себя смеялся, воображая, как вскипели бы от негодования атеисты при виде отправления наших таинств. Пусть беснуются, пусть обличают: наша несообразность мудрее их логики. Я буквально ждал, чтобы какой-нибудь писатель заметил мою улыбку, когда присутствующие причащались святых даров.
Это была хорошая игра, но и от нее, как и от других игр, которые я придумывал, чтобы скоротать время в церкви, я в конце концов устал, и мой разум начал отчаянные поиски новых забав. Однажды, в холодный осенний денек, я принялся считать, сколько в церкви дамских шляпок. Этим я занимался во время чтения первого отрывка из Библии и благодарственной молитвы. Когда же перешли к чтению второго отрывка, я взялся за подсчет мужей, которые были ниже своих жен. Впереди таких имелось четверо. К началу чтения Апостольского символа веры я стал делать попытки как-то выгнуть шею, чтобы посмотреть, есть ли низкорослые мужья сзади, но Сара Луиза прошептала: "Будь добр, прекрати глазеть", и я снова уставился перед собой. Потерпев неудачу в этом предприятии, мой разум пошел иным путем. "А как тебе вот такая игра? — предложил он. — Спроси-ка себя, чему ты, собственно, из всего этого веришь". Идея показалась мне оригинальной, и когда читали заключительную молитву, я снова прошелся по всему Символу веры, часть за частью. Верил ли я этому? Я удивился, обнаружив, что несомненным для меня было лишь одно: жил на свете римский наместник по имени Понтий Пилат. Весьма вероятно, что жил и человек по имени Иисус, чью мать, может быть, звали Мария, а может быть, и не было этого Иисуса, "распятого за ны при Понтийстом Пилате, и страдавша, и погребенна". И сколько я ни старался, больше ни с чем согласиться не мог. В остальное верилось примерно так же, как в то, что луну делают из голландского сыра.
Это открытие меня ошеломило. Но было ли оно чем-то новым? Нет: я просто никогда не спрашивал себя, во что же я верю, когда в церкви вместе со всеми начинал произносить "Верую…" Чем яснее я осознавал, как ничтожна моя вера, тем больше ощущал себя клятвопреступником. Как я мог, словно попугай, повторять Символ веры, да еще объяснять его детишкам в воскресной школе, и при этом ни разу не задаться вопросом: а сам-то я считаю ли его истиной? Вскоре после этого события во время одной из ежедневных пробежек мне в голову пришло такое рассуждение: если Бог услышит, что я произношу Символ веры, тогда все в порядке, а если не услышит, то тоже не страшно, потому что в этом случае все происходящее в церкви вообще не имеет никакого значения. Я почувствовал какую-то иезуитскую радость от того, что так удачно вырвался из этой ловушки, но когда в следующее воскресенье в церкви начали читать Символ веры, меня снова охватило ощущение вины.