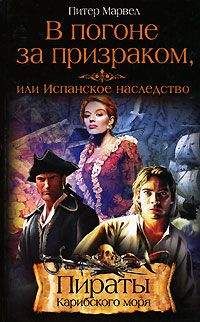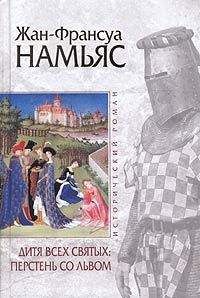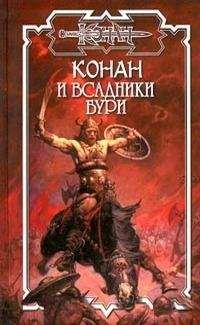В монастырь приходили все новые молодые женщины, другие его оставляли. Рыжая толстуха из Флоренции провела последний месяц, наслаждаясь своими невероятными размерами и положением «все уже знающей», пока у нее не начались схватки. Они начались в обед и продолжались до вечерни. Даже в церкви слышались ее стоны, доносившиеся из расположенного рядом лазарета. Монахини пытались сохранять невозмутимый вид, а девушки с широко открытыми глазами все прислушивались к завываниям, переходящим в крики, одни из них крестились, другие закрывали лицо руками, сдерживая нервное хихиканье.
Авива чувствовала себя неважно. От доносящихся возгласов у нее участился пульс, сильная боль пронзила живот. Она вдруг подумала, что пришел и ее черед, хотя монахини говорили, что с ней это случится не раньше чем через два месяца. От боли она раскачивалась взад-вперед, но унять ее было невозможно. Она решила идти туда, откуда доносились стоны и крики, — в лазарет. Завернув за угол, она напоролась взглядом на алое чудовище: две монашки держали за руки девушку, с ногами разведенными в стороны на всеобщее обозрение, и повсюду чаши, сверкающие серебром, будто совершалось ужасное, кровавое жертвоприношение.
Несмотря на боль, она быстрее, чем всегда, сумела вскарабкаться по лестнице в спальню. Автоматически, тысячи раз проделанным движением достала скрипку. В ее ушах все еще стоял страшный крик, и несколько тактов он сыграла, не слыша ничего вокруг, кроме диких воплей рожавшей женщины. Внезапно пелена раздирающих душу звуков развеялась, и она осознала, что не должна так играть, поскольку то, что она услышала, звучало ужасно. Она подкрутила колок скрипки, услышала протестующий стон в области ее деревянной шейки, а вслед за ним и звук лопнувшей струны ля. Она пошарила в футляре и поняла, что запасных струн у нее нет. Бесполезно. Ну что ж, оставались еще три струны. И тут лопнула вторая. И в первый раз за последнее время Авива громко захохотала и беззвучно, губами направила послание самому Паганини: знаю, это ваш любимый трюк. Но на одной струне я не смогу. Оставьте хотя бы ми и соль.
Учитель приучил ее стоять во время исполнения, как балерина в первой позиции — «пятки вместе, носки врозь», но сейчас она отказалась от этой идеи, расставила распухшие ноги на ширину плеч и заняла неуклюжее положение, согнувшись в три погибели. Играя, она раскачивалась из стороны в сторону, чувствуя вес своего ребенка, угнездившегося глубоко в ее чреве. Скрипка звучала не громче криков, все еще доносившихся из лазарета, но она уже отвлекала от них, став точкой притяжения всего ее внимания. В какой-то миг крик внизу прекратился, но Авива не остановилась и играла даже тогда, когда примерно через час колокольчик в руках монашки стал призывать девушек собраться, чтобы они узнали плохую новость. Флорентийка чувствовала себя нормально, но ребенок умер. Никто не хотел оказаться на ее месте, и каждая девушка понимала, что таинственная рука Провидения где-то близко, и не могла чувствовать себя в абсолютной безопасности.
Авива не переживала, что не поспешила присоединиться к ним тогда или на следующей службе в церкви: к чему торопиться, плохие новости не стоят того. Сейчас ее будто пригвоздили к полу, именно пригвоздили, каким-то железным прутом, что вызвал в ее теле пронзительную боль, и в то же время дал ей возможность покачиваться. Исполняя сонату Вивальди вот уже два часа, она вдруг уловила первые движения ребенка внутри себя, не в глубине живота, а выше, под правым ребром. Бросив взгляд вниз, увидела, как ткань джемпера шевельнулась, на его поверхности обозначилось, должно быть, колено или локоть, после чего последовало более глубокое, неопределяемое, воздушное движение, ровное и непредсказуемое, словно кубик льда перекатывался в стакане.
— Вивальди разбудил тебя, — прошептала она. — Я рада.
С этого момента она играла ежедневно. Одна из ее соседок возмущалась, что Авива использует мансарду в их личное время, не давая им отдыхать, но другим музыка нравилась, да и сестра Луиджия была не против и иногда сама поднималась по лестнице, чтобы послушать. Одна монахиня привезла из города новые струны. Это было очень кстати. Признание слушательниц для Авивы ничего не значило: она предпочла бы играть для себя одной. Не то чтобы одной, она-то знала, для кого играет. И он шевелился в эти мгновения: неожиданный толчок или потягивание, перехватывавшие дыхание, и юркое смещение, которое, вероятно, возвращало его в исходное положение.
Недели за две до предполагаемого срока родов девушка с соседней кровати снова прошептала ей:
— Я собираюсь дать имя своему, и буду настаивать.
— Против правил, — зевнула Авива.
— Я уже выбрала имя и мальчику, и девочке, хотя уверена, что рожу дочку. Я не буду тужиться, пока они не пообещают записать выбранное мной имя в документах. Сестры согласятся.
— Не будешь что? — рассмеялась Авива в подушку. — Да ты будешь умирать от желания тужиться. Это все равно что в туалет захотеть, так говорила Елена.
— Это отвратительно, — сказала девушка и отвернулась.
Но они обе не спали. Жалюзи в единственном окне мансарды были опущены, но через перекладинки просачивался свет луны, когда же она окончательно скрылась из виду, жалюзи потемнели. Авива прошептала на всю комнату:
— Почему ты сама хочешь дать ему имя? Ведь ты же его никогда не увидишь.
— Может, через несколько лет, или много позже, когда я выйду замуж и у меня будет семья, я буду покупать в магазине шляпку, и туда войдет красивая девочка с няней…
Маловероятно, подумала Авива.
— … и я узнаю ее по разрезу глаз или форме носа, — продолжала девушка. — И конечно же сделаю вид, что не знаю ее, но попрошу назвать свое имя. Сестры обещают, что отдадут наших детей только хорошим людям. И если я полажу с ее матерью, то смогу пригласить ее на чай.
Голос из глубины спальни заставил их замолчать.
— А что, если новая мать решит сменить ей имя? Родители могут это сделать.
Девушка подтянула простыню к подбородку и ответила с раздражением:
— Я подберу для нее хорошее имя. Оно будет идти ей, и они не сменят его.
— Как ты можешь знать, подойдет оно твоему ребенку или нет, если никогда не увидишь его?
Упорство девушки взволновало Авиву и заставило задуматься о будущем, которого каких-то несколько месяцев назад у нее вообще не было. Ее беременность подходила к финалу, и ребенок стал для нее волнующе реальным. Он прижимал свою твердую, круглую головку к ее животу, и она клала руку на это место, и это было почти то же самое, что гладить голову новорожденного младенца, — она словно чувствовала нежные волосики, мягкую кожу, даже запах. Ей страстно хотелось увидеть его открытые глаза, маленькие сжатые кулачки, которые неистово наигрывают прерывистые ритмы на уровне ее легких..