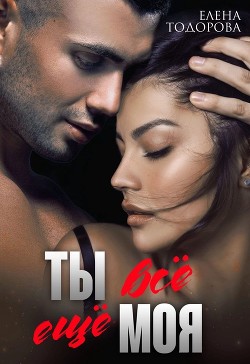Ты права. С Чарушиными можешь больше за нее не волноваться. Залюбят ее все. Не отобьется.
Наверное, мы оба невольно сравниваем с его семьей. Итоги плачевные, понимаем тоже оба. И все равно мне плевать. Говорю Сашке об этом, обнимая его.
– Будем с тобой вдвоем. Нам и вдвоем шикарно!
– Согласен, – смеется он.
– Мы сильные!
– И с этим согласен.
– Каким бы серпантином не был наш путь, справимся!
– И снова согласен!
Я не хочу думать, что этот день – короткое перемирие. Не допускаю мысли, что обиды, ревности и ссоры снова вернутся, как только утихнет эйфория. Отрицаю упорно, но правда в том, что за последние месяцы подобное уже происходило не раз.
Нет… Сейчас по-другому! Я ведь открыла ему почти все, что меня тревожит.
И все же…
Все хмурые и колкие взгляды Людмилы Владимировны принимаю с некоторым злорадством. Пусть видит, что больше у нее нет власти, чтобы заставить Сашу меня игнорировать. Он, конечно, достаточно мягко ее на место поставил. Не так, как хотелось бы мне. Но пусть хоть так. И нам, вроде как, нет нужды беспокоиться о ее здоровье. Она живее всех живых! И слава Богу, конечно.
– Что-то меня мутит, – сообщаю сестре, обмахиваясь руками. – Душно тут… Пойду, подышу.
– Пойти с тобой? – сжимает мою неожиданно вспотевшую ладонь.
– Нет… Не покидай свое торжество. Я быстро! Пока Сашка с парнями покурит, вернусь.
Лиза одалживает мне свою белоснежную шубку. Накидываю ее на плечи. С кокетливой улыбкой позирую, когда вижу, что фотографирует меня. Пританцовывая, пересекаю зал и, наконец, выхожу на балкон. Мороз трещит, народ сюда в такое время неохотно тянется. Разве что покурить кто-то изъявит желание непременно на воздухе, а не в отведенном для этого помещении.
Такими ценителями кислорода оказываются Игнатий Алексеевич и отец Влады – Владимир Всеволодович Машталер.
Услышав мои шаги, оба, замолкая, оборачиваются к двери. Я сдержанно киваю, вежливо улыбаюсь и, дождавшись ответной реакции, прохожу к противоположному краю балкона. Все время, что я там стою, мужчины сохраняют тишину. Слышу только, как попеременно затягиваются и выдыхают табачный дым. Мне, несмотря на расстояние, становится от этого запаха дурно. Да и неуютно я себя чувствую. Кажется, что наблюдают за мной.
С деланной неторопливостью отступаю от перил и, не глядя на мужчин, удаляюсь обратно в зал.
Только еще до того, как я добираюсь до двери, они, не заботясь о том, что я услышу, выдают странные фразы.
– Это пора прекращать, – говорит Машталер. – Если ты понимаешь, о чем я говорю…
– Понимаю, – поддерживает Игнатий Алексеевич столь же холодно.
У меня по спине озноб бежит, и я все-таки прибавляю ходу, чтобы скорее нырнуть в зал. Там почти сразу же в Санины объятия попадаю. Греюсь и смеюсь, но внутри бьется, как раненый монстр, тревога.
Знать бы тогда, чем все это закончится…
Ты моя навек…
© Александр Георгиев
– Привет, родной, – восклицает мама, прижимая к моей щеке ладонь.
Бурная радость, которую она сейчас транслирует, ни хрена не стыкуется с ее хладнокровным характером. И это заставляет меня сразу же напрячься и приготовиться к очередному дерьму.
– Привет, – слегка наклоняюсь, чтобы поцеловать в щеку.
– Видел, какое солнце сегодня? Прям весна!
Смотрю на нее, а в висках уже молотки долбят.
Стоит спросить, что с ней, к черту, случилось? Может, она на каких-то таблетках? Или, как сейчас модно, проходит какой-то курс психотерапии а-ля-бля «Я люблю жизнь»?
– Конец января, мам. Какая весна? Давай, заземляйся, – хмуро выдаю в ответ.
Реакции на свою просьбу не дожидаюсь. Как только метрдотель приглашает нас в зал, подхватываю мать под локоть и веду к столику. Пока помогаю ей сесть и занимаю место напротив, подходит официант. Делаем заказ. И едва остаемся вдвоем, начинает разворачиваться тот самый пиздец, к которому я, зная свою маму, инстинктивно готовился.
– Колье нашли, – толкает она с внушительным апломбом, будто не мне это говорит, а выступает в зале заседания суда.
– Отлично, – сухо одобряю я.
– Не спросишь, где?
– Похрен.
– А я все равно скажу.
– Кто бы сомневался, – ухмыляюсь, хотя мне ни хуя не весело.
Сердце ускоряет ход и за мгновение почти доводит меня до приступа.
– Твоя Соня только сделала вид, что потеряла его, – сообщает мать, выплескивая в сторону моей девушки все то презрение, которое ей обычно приходилось при мне сдерживать. Видимо, теперь чувствует, что вправе выдавать эти эмоции. – На следующий же день после свадьбы она его сдала в ломбард.
Не пытаюсь предположить, что колье толкнул другой человек, который нашел его или даже тупо спиздил. Уже понимаю, что дальше пойдут конкретные доказательства против Сони. Если бы их не было, мама бы никогда не начала этот разговор.
И мои гребаные ожидания, увы, оправдываются.
На стол ложатся фотографии, а точнее – стоп-кадры с камеры видеонаблюдения в какой-то винтажной псевдо-ювелирной лавке, где моя Соня держит в руках то самое проклятое колье.
В груди неприятно сжимается. Но я продолжаю делать вид, что эта информация не имеет никакого ебаного значения.
– Я же сказал, мне похрен, – точу методично, как зэк, коих перед моей матерью сидело немерено, заточку. – Продала – значит, продала.
– Ты сам слышишь, что говоришь? Перестань же вести себя как глупый влюбленный мальчишка! – выпаливает она, обращая свое презрение на меня. – Эта девчонка тебя доит, как лоха, ты это, черт возьми, понимаешь?!
Когда-то, в самом начале наших встреч, я сам пытался купить Соню Богданову. Не видел в этом ничего зазорного. Однако сейчас… Когда реально маячит вероятность, что она со мной только из-за бабок, нутро разъебашивает, как дуло ружья, в которое вставили слишком мощный патрон. А на курок ведь жала моя родная мать.
Какого хрена?
Не собираюсь ей показывать, что творится внутри!
– Похрен, – повторяю так же твердо.
– А мне – нет, – она в ярости. Явно не той реакции ожидала. – В конце концов, это мои деньги!
Я достаю портмоне с банковскими картами и кладу его на стол поверх гребаных фотографий. Мать теряется и резко умолкает. Отличный результат. Давно надо было это сделать.
– Спасибо, мам. И прости. Я сейчас уйду, чтобы не наговорить тебе хероты, – оповещаю спокойно. Поднимаясь, наклоняюсь, чтобы коснуться губами ее