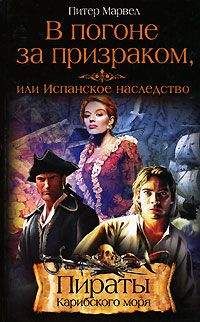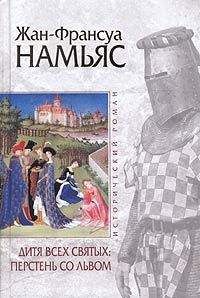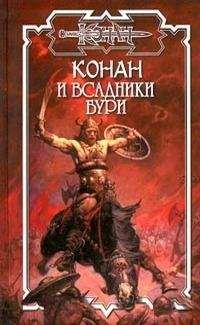— Тебя, должно быть, устраивает, что я неважно себя чувствую. Будь я покрепче, давно бы уже была в Америке.
Она призналась, что брала морфий, который я прятал в своем футляре.
— Сколько доз ты приняла? — спросил я ее, доставая из футляра бутылку. Она была пуста.
— Бывают вещи и похуже.
— Возможно. Но ты взяла то, что тебе не принадлежало. Ты губишь свое здоровье, пренебрегая доверием тех, кому небезразлична.
— Ничего страшного, это же не курение опиума, — огрызнулась она.
— Да откуда ты знаешь?
— Ты слепец. И это не самое печальное, — накинулась она на меня. — Ревнивец. Я хоть знаю, что делаю, а ты считаешь меня безрассудной.
Я говорил об одном, она о другом. Не помню, что мы еще наговорили друг другу, только, покидая комнату, она бросила мне:
— Не догадываешься, кого нужно пожалеть — безумицу или того, который ходит за ней кругами?
Мы помирились на следующие выходные. Я заполнил свой рецепт на морфий и отдал ей в обмен на обещание, что она не будет курить опиум. По ее признанию, она делала это в Берлине и только со своими друзьями-музыкантами.
Как-то она не возвращалась в отель до самого утра. Я прождал ее всю ночь, поклявшись себе, что скажу ей все, и о письме к Аль-Серрасу, и о многих других вещах.
После очередного тоскливого представления в Ингольштадте, в школе, располагавшейся в небольшом кирпичном здании, я последовал за Авивой в класс, где ее, по обыкновению, ждали дети. Один из них, светловолосый курчавый мальчик лет шести или семи, попросил разрешения сыграть для нее на фортепиано. Когда занятия закончились, мы с учителем взялись откатить пианино в чулан, где оно обычно и находилось. Я толкал старенький инструмент по коридору, когда услышал позади себя радостный звонкий голос. Обернувшись, я увидел его обладателя. Это был ангелоподобный мальчик, он шел с Авивой по коридору в обратном от меня направлении. С ней не было ни скрипки, ни пальто. Едва она взяла его за руку и они свернули за угол, я сразу же догадался, что она задумала.
Я бросил и учителя, и пианино и помчался за ними. За поворотом их не было. Я заглядывал в каждую комнату, мимо которой пробегал. Распахнутая настежь дверь в конце коридора выходила на школьный двор и затем на пустынную улицу. Задыхаясь, я выкрикивал ее имя, сперва во дворе, потом в школе. В дверных проемах стали появляться люди: сначала несколько учеников и учителей, а затем беловолосый мужчина, который допросил меня, после чего повел в большую комнату с покрытым инеем окном, в свой кабинет.
Когда директор школы закрыл дверь кабинета, я увидел Авиву с мальчиком, сидевших на длинной деревянной скамье, вытянувшейся вдоль одной из стен. Она взглянула на меня и тут же прикрыла рукой покрасневшее лицо. На ее шее, на тонкой синей ленточке, висела небольшая бронзовая медаль, которую прежде я никогда не видел. Благодарственный подарок от школы. А мальчик вызвался проводить Авиву до кабинета директора, чтобы она смогла получить эту медаль. Авива не знала сюда дороги.
— Я намерен рассказать Вайлю, — сказал я ей, после того как мы опять проспорили всю ночь в нашем номере.
— Что? Что ты одержимый? Что ты вбил себе в голову бог знает что?
— Я скажу ему… — Я снова не договорил, тишину нарушили четыре коротких стука в стенку у кровати, я аж подскочил от неожиданности. Так фрау Цемлер, находившаяся в соседней комнате, давала нам знать, что неплохо слышит наши голоса. — Допустим, я ошибся насчет этого мальчика…
— Конечно ошибся. Ему даже не столько лет! Найди я того, кого ищу, что бы я, по-твоему, сделала — ушла бы с ним? Выкрала?
Я не ответил, а она продолжала:
— Всего один месяц, обещаю, и мы сделаем перерыв на лето. Тогда я буду готова оставить Германию.
Я же прошептал:
— Я скажу ему, во-первых, что ты одержима идеей с этими мальчиками; во-вторых, что ты принимала морфий и опиум и тебе нельзя доверять.
— Но турне этого года почти закончено, и у меня почти не осталось сил…
— У тебя их не станет совсем, после того как я все расскажу Вайлю. Ты меня можешь презирать, но он поймет.
Многие месяцы я не испытывал ничего подобного, но тогда я был взбешен. Подняв на Авиву глаза, я увидел, как она напугана. Она села на кровать, но через минуту встала и направилась в ванную комнату. Спустя время, когда вернулась оттуда, обвернувшись полотенцем, она снова села на кровать:
— Что ты хочешь от меня?
Из соседней комнаты постучали.
Авива взглянула на стенку, затем мне в лицо потускневшими глазами и с твердой решимостью в голосе прошептала:
— Я сделаю для тебя все, что захочешь.
Возвращение в Испанию после столь длительного отсутствия было сродни пробуждению, когда, просыпаясь, понимаешь, что проспал все на свете. Весь следующий месяц меня не покидало тревожное ощущение, с настойчивостью навязчивой идеи пульсировавшее в мозгу, мне не терпелось побыстрее войти в курс всех дел. Это касалось и области моих профессиональных интересов, и политических.
Известные дирижеры приглашали меня выступить в наступающем году с сольным исполнением концертов для виолончели с оркестром си-минор Дворжака, ми-минор Элгара и Concerto ballata Глазунова. Гражданские организации, частью и вовсе не имевшие отношения к музыке, последовали их примеру. Разумеется, я не мог им отказать. Разъезжая по Европе и Америке, я твердо определил для себя, какое место Испания занимает в мире и какую позицию она должна занять в эру неотвратимо наступающего национализма.
В том году Рита решила выйти замуж и бросила работу секретаря. Найти ей замену для меня не представляло труда, но я не нуждался ни в чьей помощи и предпочел сам просмотреть груды непрочитанных писем и телеграмм, накопившихся за время моего отсутствия. Мне предстояло погрузиться в привычный мир, по которому я так стосковался: письма и награды, сообщения о гонорарах, всевозможные просьбы — все это должно было стать лекарством от бессилия и слепоты, которые всецело овладели мной в Германии. Мне нужно было время, чтобы разобраться с произошедшим в ту ночь с Авивой.
В Саламанке ко мне обратились молодые виолончелисты с просьбой провести мастер-классы и написать для них рекомендательные письма дирижерам или прослушать их собственные записи. Я серьезно отнесся к новой для себя роли, искренне радуясь тому, что помогаю другим и тем самым утверждаю не только высокий авторитет музыки, но и общечеловеческие ценности.
И конечно, я продолжал писать Авиве. Я не мог отвернуться от нее, особенно после той ночи, но и делать вид, что ничего не произошло, тоже не мог. Я и рад был бы забыть все случившееся, но оно против моей воли неотступно следовало за мной по пятам.