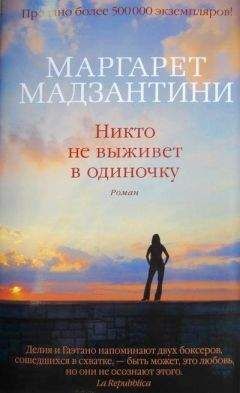— Cuvaj se, береги себя.
Это он договаривался с солдатами, убедил их, отдав последние деньги. Добраться до аэропорта на «попутке» ООН — услуга платная. Мы сидим внутри белой черепахи, она трогается с места. Страшный шум; ребенок, как кукла, трясется в такт с дребезжащей машиной, но не просыпается. Кто этот невесомый, безразличный младенец, который разрешает волочить себя, как ногу в слишком большом носке? Он для меня все: причина, по которой мы приехали в этот ад, тот самый гвоздь в нашей судьбе… но теперь я настолько вымоталась, что того и гляди могу его уронить. Броневик едет по обломкам, под ногами неровная почва, колеса буксуют, карабкаются. Украинский солдат смеется, он говорит по-английски, спрашивает о ребенке, рукой отодвигает одеяло, чтобы рассмотреть мордашку.
Нас останавливают на блокпосту, солдат высунулся из люка, говорит с человеком в камуфляжном костюме. Агрессоры-сербы и украинцы из ООН договариваются между собой и прощаются, подняв вверх три пальца.
Покинув броневик, мы входим в темную коробку аэропорта. Диего учит меня, что говорить, что делать… проходим на контроль. На меня смотрит худая женщина в маскировочном костюме, с мощными лошадиными скулами. Ее взгляд пугает меня, и я опускаю голову. Прибиваюсь к небольшой кучке гражданских, которые ждут, как и мы; на всех бронежилеты поверх пуховиков. Никто не чувствует себя здесь уверенно — последние врата осады, вероятно самые опасные. У всех военных такой вид, будто они нас ненавидят. Эти хищники прекрасно знают, что творится в душе у людей, находящихся в их власти… в воздухе повисло безмолвное напряжение, они чуют общий страх и, похоже, забавляются. Того и гляди с минуты на минуту начнут стрелять в нас. Мы настороженно двигаемся, не делаем резких движений. Боимся, не случилось бы чего-нибудь: сербы часто обстреливают аэропорт, несмотря на то что хозяева здесь они. В развороченной витрине отражаются маленькие дома Бутмира — плоские крыши на опорах перекрытий. Вдруг все завопили в голос. На фронте Добрыни идут бои. Морозно, я склоняюсь над ребенком. Малюсенький носик, величиной с мой ноготь, превратился в ледышку. Дышу на него. Обессиленный Диего машинально гладит меня по спине. Потом наклоняется взглянуть на малыша:
— Главное, ничего не бойся.
И я не понимаю, кому он это говорит — сыну, мне или самому себе.
Внезапно нас поднимают и торопят на выход. Исполин в голубой каске ведет нас к взлетной полосе. У двери с выбитыми стеклами, прежде чем пропустить нас, полицейский проверяет по списку имена. Операция не отнимает много времени, проходим мимо него с опущенными головами, как скот. Подаю свой паспорт с вложенным листочком из больницы. Полицейский даже не замечает, несу ли я что-нибудь, смотрит совсем в другую сторону, беспрестанно крутит головой, поворачиваясь к шлагбауму на полосе, как раз под контрольной вышкой, куда побежали несколько военных. Возможно, ждет сигнала. Я жду печати, красной, как клеймо на скотине. Сердце замирает. Полицейский едва поднимает подбородок, чтобы взглянуть на ребенка, завернутого в одеяльце. Сейчас пять часов, уже темно. Лицо полицейского шелушится от мороза, нос большой, красный… я не чувствую рук. Опять начинаю бояться, что не удержу ребенка, а полицейский на контроле протягивает руку к одеялу, отгибает край, за которым спрятано личико. На его лице появляется странное выражение — почти удивления, горького смятения. Убрав руку, пропускает меня. Делаю несколько шагов на морозе. Ветер порывами спускается с Игман, поднимается метель, уже забелившая взлетную полосу. Я оборачиваюсь, ощущая пустоту сзади. Давно знакомую мне пустоту — предчувствие, которое я долгие месяцы пыталась подавить. Диего не идет за мной. Я его потеряла. Оборачиваюсь, но знаю, что искать бесполезно. Потому что я потеряла его уже давно. И знаю, что недавно он с нами попрощался.
«Главное, ничего не бойся».
Может, я должна рассказать сыну об ощущении той пустоты жизни, идущей ко дну. Мы делали свои первые шаги в одиночестве, как сироты. Нетвердые шаги коровы, которая после отела, чтобы не умереть, должна как можно быстрее подняться на ноги.
Смотрю на едва освещенную дыру аэропорта, расплывающуюся за мной вдалеке, в грязном мраке кружащегося вихрем мелкого мокрого снега. Видны одни очертания, тени. Не понимаю, что происходит. Диего стоит около полицейского… ждет, пока пропускают других, двух журналистов, пробегающих затем мимо меня. Поднимает обе руки, машет, кричит. Мне надо бежать, уйти с полосы.
Я двигаюсь вперед, выворачивая шею, не в силах оторвать от него взгляд. На востоке стреляют, в небе загораются вспышки трассирующих пуль.
Лезу наверх, забираясь в железное брюхо самолета. Остановилась, схватившись за дверь люка; лицо окаменело от холода и ветра, режущего, как лезвием. Ребенка положила на скамейку, рядом с чьим-то армейским рюкзаком. Может, оставить его здесь. Куда он денется, долетит до Италии, кто-нибудь о нем позаботится… положу рядом свидетельство о рождении, в «Холидей-Инн» попрошу у кого-нибудь мобильный со спутниковой связью, позвоню папе. Да, я могла бы выйти, выброситься из самолета, который так и не выключил двигателей, вернуться к двери с разбитым стеклом, вернуться к телу моего любимого.
Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что я хотела бросить его, высунувшись из двери самолета, на ледяной ветер взлетной полосы.
— Почему задержали моего мужа?
— Он потерял паспорт.
Солдат — высокий молодой человек в шлеме — говорит с венецианским акцентом, извиняется, что ничем не может помочь: они доставили гуманитарный груз и теперь возвращаются, таков приказ, они и не знали, что должны будут взять пассажиров. Смотрю на Игман, гору, окаменевшую от мороза.
Мне повезло.
Вот как?
Очень повезло.
Много лет назад его везение упало с неба вместе со снегом, валившим хлопьями и задерживавшим авиарейсы. Хотелось дать ему пощечину за то, что он выиграл в конечном итоге. Эта пощечина застыла в моей окоченевшей ладони, вцепившейся в перила, а солдат твердит, что я должна зайти внутрь, пора отправляться.
У меня не хватило духу выпрыгнуть, оставить Пьетро, выбрать другую судьбу.
Ветер подтолкнул меня внутрь: взлетная полоса огромная, темная, не дай бог, случайная пуля. Вжимаюсь в стенку, хочу подняться в небо живой.
Правда в том, что я сделала выбор, и Диего это знает. Я бы никогда не уехала с пустыми руками. А теперь у меня есть этот сверток, который я должна отдать миру. Забираю с собой лучшую часть Диего, новую жизнь, не запятнанную никакой болью. И кажется, вижу его улыбку. Прижимаюсь к единственной щели, из которой видно, что происходит снаружи. Самолет разгоняется. В последний раз смотрю на парня из Генуи.