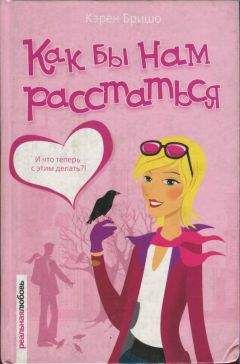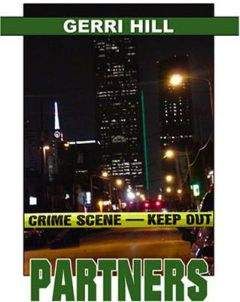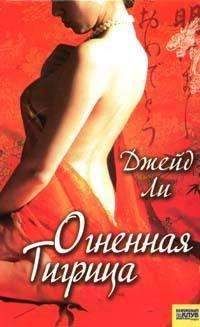Молчание.
Я смотрю сквозь щелку между пальцами.
Индия в середине процесса приготовления кофе. Она не отрывает глаз от мерной ложечки.
— Сколько я положила, одну или три?
— Я не смотрела.
— Тогда дальше придется на глаз. — Она подсыпает еще несколько ложечек и включает кофеварку.
— Просто не знаю, что делать, — говорю я, наблюдая, как она убирает мешочек с кофе и вытаскивает пакет с хлопьями.
— Дать тебе тоже чашку?
— Да. Устрою себе сахарную передозировку, хоть кровь разогреется.
— Зачем тебе что-то делать? — спрашивает Индия, ставя на стол молоко и передавая мне чашку и ложку. — Беременна-то ведь она. Тебя это никаким боком не касается. Если только в плане жилья…
Я от души насыпаю себе в чашку хлопья, высший сорт «Кэп'н Кранч». Касается ли это меня?
— Наверное, затем, что мама ничего сделать не сможет, я-то знаю, — говорю я. — А Джине нужен кто-то. Она приехала ко мне, поэтому это меня касается.
Индия кивает головой.
— Хорошо. Но как быть с этим парнем, который с ней?
Я отрываю взгляд от молока и смотрю вверх.
— Ты его уже видела?
— Наткнулась, выходя из ванной. Это он отец ребенка?
— Хороший вопрос. Я не спросила. Если и он, то все равно он отцом быть не может.
Индия смеется.
— Ты только послушай, что ты говоришь. Можно вырваться из провинции, но устаревшие взгляды из головы не выветриваются. — Совершенно не реагируя на мой пристальный взгляд, она на пробу берет в рот ложку молока. — Ну есть у него несколько татуировок и колечки в сосках. Это совсем не значит, что он не сумеет быть отцом.
Она права.
Я проснулась с мыслями о матери, а сейчас сама говорю, как она.
Я роняю голову на стол, не обращая внимания на молоко, выплеснувшееся из чашки с хлопьями.
— Я превращаюсь в свою мать, — говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь.
Индия опять смеется.
— Да нет же. Судя по тому, что ты о ней рассказывала, она не умеет смеяться. А ты, — тычет она мне в макушку своей ложкой, — ты любишь похохотать.
— Спасибо за комплимент.
— Всегда к вашим услугам. — Она задвигает стул. — Мне надо идти, а то опоздаю.
— Индия, — говорю я, останавливая ее, пока она не вышла из кухни.
— Что?
— Спасибо тебе. За то, что разрешила им остаться. Я понимаю, какая это обуза и все такое…
— Не за что, — прерывает она меня. Она уже выходит, но потом просовывается в дверь. — Но только на несколько дней, пока они не найдут себе другое жилье.
Я выбрасываю остатки хлопьев в мусорное ведро, затем проскальзываю в свою комнату, чтобы взять одежду. В комнате темно. Я обычно не закрываю занавески, чтобы просыпаться с первыми серыми бликами рассвета, но Джина и Дилен задернули шторы до полной герметичности. В комнате темно, и в ней пахнет немытыми телами подростков и сигаретным дымом. Этот запах меня раздражает. Когда я сама курю, то открываю окно и высовываюсь на морозный воздух, потому что мне не нравится, когда от меня потом весь день разит сигаретным перегаром. К тому же, по дороге к стенному шкафу я натыкаюсь на пару ботинок, лежащих поверх кучи одежды, и опрокидываю сумку.
Плевать мне на радушие и гостеприимство. Я раздвигаю занавески.
Джина отворачивается.
— Погаси свет, — говорит она и натягивает одеяло на голову. — Мы пытаемся заснуть.
Она, конечно, этого не знает, но, если бы я не видела, как Дилен во сне притянул к себе это жалкое, жалующееся существо, я дала бы ей в руки коробку из-под сигар и показала ту улицу.
Будь они неладны, эти родственные узы.
— А вот и твоя маленькая сестренка, — сказала мне мама в палате для рожениц городской больницы Хоува.
Отец сжал мне плечо и наклонился к моему уху:
— В том розовом одеяльце не мартышка, хотя выглядит она именно так.
Ни мне, ни маме смешным это не показалось.
Мне захотелось быть в этот момент вместе с классом под мостом. Собирать мусор в это субботнее утро было бы гораздо приятнее, чем стоять здесь, неловко переминаясь с ноги на ногу.
— Ну давай, — потребовала мама, не обращая внимания на замечание отца, — скажи «здравствуй» нашей маленькой Джине.
— Уродское имя, — ответила я. В тринадцать лет я знала об именах все. — Все решат, что ты назвала ее в честь той актрисы.
— Ее зовут Джина, — произнесла мама сквозь растянувшиеся в улыбке губы. — И она твоя сестра.
Будь они неладны, эти родственные узы!
Я выхожу из автобуса на квартал раньше в надежде, что мартовский ветер выдует запах дыма из моих волос и одежды. Глупо, конечно. Я добираюсь до музея, уже заледенев до костей. Ветер проносит меня через стеклянные двери, вдувая вслед обрывки бумаги и последние осенние листья, запрыгавшие по всепогодному ковру и дальше, по покрытому плиткой полу вестибюля. Но стоит двери закрыться, как музей обволакивает меня знакомым запахом мастики для пола и ветхих льняных тканей с ручной вышивкой. Здесь всегда пахнет чопорностью, старостью и воспоминаниями.
Музейчик маленький. Одно из миллионов историко-краеведческих учреждений, обосновавшихся в старинных зданиях и с помощью взимаемых за посещение долларов и разных грантов пытающихся не дать запереть историю Чикаго в ящике комода. И моя задача, как составителя запросов о грантах, в том, чтобы наскрести достаточно денег, чтобы эта история оставалась открытой для обозрения. Составитель запросов… Звучит куда солиднее, чем есть на самом деле.
Оказавшись в своем кабинете, я останавливаюсь, чтобы освободиться от шарфа, пальто и сумки и вынуть кофейную чашку. На ней остался ободок от высохшего вчерашнего кофе. Я раздумываю, стоит ли мне идти в туалет, чтобы ее вымыть, но потом пожимаю плечами и иду к вестибюлю — на звуки сирены, вырывающиеся из кофейной комнаты.
Говоря «сирена», я использую это слово вовсе не в том же смысле, что и в древнегреческих мифах. Я имею в виду сигнальную сирену.
Сегодня Кенни в отличной форме. (Кенни — это тот парень, который внес огромный вклад в создание в Клубе такой атмосферы свободного микрофона, когда он свободен «для всех, кроме Кенни».) Когда я говорю, что Кенни в отличной форме, я хочу сказать, что он демонстрирует свои последние достижения в вокальной технике. Только Кенни может произвести такой звук. И я иду на звук по полутемному коридору и обнаруживаю, что половина сотрудников музея столпилась вокруг Кенни, как крысы вокруг дудочника.
Тут и Дороти, которая проходит болезненный курс акупунктуры. И Тимоти — он директор музея, по сути, наш начальник, но, глядя на него, этого не скажешь: челюсть у Тимоти на одном уровне с верхней пуговицей его фланелевой рубашки. И Джонз. Джонз делает вид, что наливает себе кофе, но на самом деле он смеется.