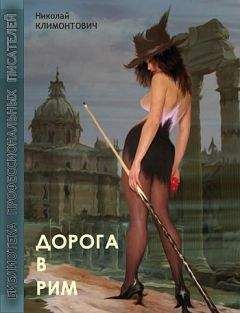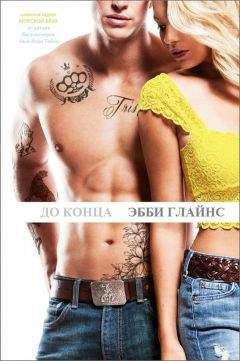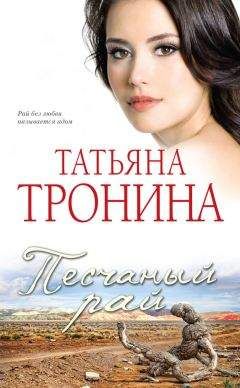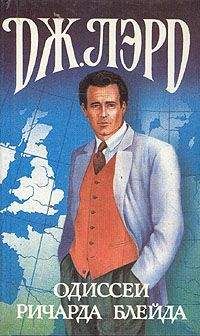Забавно вспомнить, каков был шик того времени. Скажем, я по парадным случаям бывал одет так: темные вельветовые штаны, зеленые носки, светлые, искусственной замши полуботинки с бахромой, такая же коричневая куртка, но изюминкой наряда являлась рубаха — черного ситца в мелкий желтый цветок, с огромными отворотами высокого стоячего воротника, застегивавшимися на пуговицы, расположенные далеко по ключицам. Стиль был вполне урловый, а если учесть, что волосы я тогда носил почти до плеч, то, понятно, в целом мой облик вполне мог отвечать самому взыскательному негритянскому вкусу. Свою черную девочку в тот вечер я повел в дорогое кафе «Адриатика», и по сей день функционирующее где-то в Староконюшенном, место, в те годы модное у прикинутой молодежи, хоть и подозреваю, что это слово вошло в обиход несколько позже, — здесь почти не бывало проституток, здесь пристойно обслуживали, подавали паштет в тарталетках, коктейли и холодное шампанское. Мы сидели на мягком закругленном диванчике в неглубокой нише, пили брют и болтали очень живо — ее английский дивным образом напоминал тот, которому нас здесь учили. Я спросил, бывала ли она на концертах «Роллинг стоун», мне казалось, живя в Лондоне, это так же естественно, как в Одессе купаться в море. Оказалось, на концертах роллингов она не была, но мы тут же шепотом и хором спели с ней ай кэн гэт ноу сатисфэкшн, и тогда она спросила, был ли я там, где лежит этот мертвый лидер, и была поражена, в свою очередь, что случаются русские, которые ни разу не были в мавзолее. Я тут же с готовностью ударился в антикоммунистическую проповедь, и она заметила, что она тоже не коммунист, и последнее мне показалось странным — столь очевидным мне представлялось, что такая девушка и не могла бы оказаться коммунистом, раз родилась на Ямайке, а живет в Лондоне. Впрочем, я тут же поделился с ней, что не состою даже в союзе молодых коммунистов, который называется ком-со-мол, но на нее это не произвело должного впечатления, она и не подозревала, что в нашем с нею возрасте в этой стране все поголовно должны были состоять в этой организации, хоть и повторила старательно коум-coy-моул, и вскоре мы уже целовались, причем она, набирая в рот шампанского, заливала его в мои губы, и, признаюсь, это было непривычно, но чрезвычайно приятно, хоть шампанское выходило несколько подогретым, и чуждость ее расы нисколько не смущала меня. Пожалуй, в нашем поведении был вызов — может быть, в лондонских барах так себя и ведут, заливая друг другу брют из губ в губы, но в Москве в те годы это было все-таки известной экстравагантностью, хоть по соседству и предпочитали делать вид, что ничего не замечают. Конечно, целуясь с черной девочкой посреди советской державы, я испытывал некоторый прилив вполне героического энтузиазма, который охватывает нас при решимости отстоять свою свободу, — ее лондонская прописка плюсовалась с цветом ее кожи, а мне ли было не знать, что первое может привлечь острое внимание правоприменяющих органов, тогда как второе может возмутить нашу вполне расистски настроенную общественность, — я ведь знал отношение соотечественников к русским блядям, когда они садятся в такси с этими черножопыми, с этими негативами и угольками. Чувство опасности, как мы знаем, лишь умножает сексуальное возбуждение, но все же, когда она залезла глубоко мне в рот своим тонким вертлявым языком, я понял, что наступает атэншн, как предпочитали тогда говорить в центре вместо блатного и привычного атас. Мы прихватили с собою бутылку шампанского и взяли такси, я повез ее на Ленинские горы — показывать очередной вид, прикидывая, что в наступившей темноте все кошки серы и что в парке мы без помех сможем предаться нашим африканским ласкам.
Осмотру города было посвящено минуты три. Придерживая ее, я повлекся вниз по крутой тропке и на смутно освещенной луной и далекими фонарями полянке — относительно горизонтальной, — отступив в тень кустов, я обнял ее, и ответом мне были столь сладкие нежности, каковым я до тех пор никогда не подвергался и каковые вообще в дефиците в наше торопливое и подмороженное время. Я расстегнул ее кофточку, ласкал прелестную маленькую грудь с довольно крупными и очень твердыми, тугой резины, сосками, и она изгибала свое узкое хрупкое тело, будто танцуя танец. В свою очередь она расстегнула мою рубаху, лизала мою кожу жарким языком, а бедра ее ходили взад-вперед. Здесь было так укромно, все так располагало к немедленной близости, вот только как на грех меня держало в плену одно обстоятельство — я только что закончил курс бициллина, лечась от триппера, который подхватил у какой-то девицы из той же «Метелицы». Наверное, я уже не мог бы заразить ее, но провокации еще не было, к тому ж — я дал подписку, которую взял у меня мрачный доктор с бородой Вельзевула и в очень сильных очках, отчего его еврейские очи за толстыми линзами выглядели просто чудовищно. Помнится, среди команд убери кожу, покажи головку, жми от корня он сердито приговаривал: «Ты же студент, тебе головой, а не хуем работать надо», — но после осмотра виновницы задумчиво заметил: «Что ж, я тебя понимаю…»
Я ощупал и огладил ее всю, испещрил ее черную кожу тысячью поцелуев, вжимал в себя, сдавливал обеими руками ее попку под расстегнутыми брючками, пах горел, но запрет был сильнее желания, и, когда мы карабкались тою же тропинкой вверх, она, быть может, обдумывала загадку славянской души, ей чудилось, что нет ничего прекраснее, чем эта русская нежность и таинственная половая деликатность, хотя сигнал к отступлению подала сама, сказала, что ее леди могут рассердиться, если им что-нибудь понадобится, а ее нет.
Объятия, поцелуи, ласки — все повторилось на заднем сидении такси, хоть я, не глядя, чувствовал, сколь это раздражает водителя. Страстно обнимала она меня и на ступеньках «Украины», забирала своим пышущим ртом мои губы, прихватывая, кажется, щеки, но уж здесь-то не нужны были медиумические способности, чтоб знать, как пристально следят за нами десятки топтунов и наблюдателей, которых всегда пруд пруди у интуристовских гостиниц. Я пытался отклонить ее непомерные нежности, но, быть может, она и это принимала за застенчивость, потому что была впервые в Москве и, конечно же, не представляла себе наших порядков. Она попросила у меня адрес, и я, злясь на советскую власть и на себя, объяснил ей, что для меня опасно получать ее письма — даже корреспонденция отца, исключительно научная, должна была идти строго через его кафедру. Тогда она спросила: «Ну, а если ты приедешь в Лондон — ты позвонишь?» — И протянула визитную карточку.
Что мне было ответить? То и дело прикладывая пальцы к губам, а потом протягивая руку ко мне, отпечатывая на моем лице многие воздушные поцелуи, пятясь, она вошла наконец в гостиничный вход, и створки вращающихся дверей поглотили ее. Я повторил ее последнюю фразу: ай’л вайт ё лэттер… И карточку ее долго хранил. Ее звали Элизабет Смит. Я так ей и не написал. И не только потому, что письма без обратного адреса просто не уходили из страны, а письма с обратным адресом равносильны были самодоносу. Дело не только в этом. В сущности, мне было нечего написать этой черной девочке, с которой — я твердо знал это — мне никогда не придется свидеться. Что было написать: что от триппера я уже вылечился; что по-прежнему желаю ее и помню ее поцелуи; что я вонт ту спенд май лав виз э герл лайф ю, но вот только живу в стране, где люди не выбирают свои маршруты и даже внутри границ направление их движения сплошь и рядом намечают другие; и что мне никогда не попасть в Лондон, потому что я не в коум-соу-моул, а также потому, что не бываю в мавзолее.