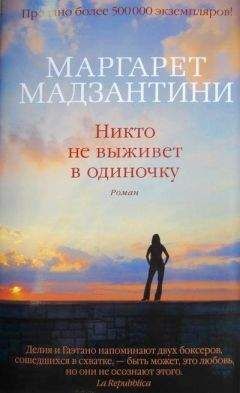— Понятно вам?
Даже лже-Сандро удивляется: вот это да!
Щечка малыша лежит на исполинском плече. Вздрогнув от отрыжки, малыш не проснулся. Я съела все бутерброды, пью воду с газом и тоже слегка срыгиваю. Тоже наелась и успокоилась, как ребенок.
Разглядываю в слабом освещении этого человека, у которого на руках новорожденный из Сараева. И внезапно чувствую боль, которая потом всегда будет настигать меня по-особенному. Сейчас она сдавливает мне затылок так, что цепенеет шея. Это Диего схватил меня сзади, узнаю его руки, его дыхание, но не могу обернуться. Это на его руках должен был лежать младенец, на руках парня, который мог бы стать замечательным отцом, святым, фокусником. Это он вцепился в мой затылок и нашептывает, чтобы я шла вперед за своей судьбой, следовала дальше по жизни без него. Это он не разрешает мне обернуться. Обнять смерть.
Капитан снова садится напротив меня, с другой стороны столика:
— Устали?
— Немного да.
— Вы рожали в Сараеве…
— Да.
— Вы отважная женщина.
Мы начали разговаривать, рассказываю ему, что мой муж остался там, что он фотограф. Джулиано кивает, я рассказываю о Диего, о том, как мы познакомились, о его фотографиях.
А изнутри меня гложет страшная тоска. Море тоски. Вижу ноги Диего в аэропорту, тонкие, холодные, будто железные трубы. Вижу, как он стоит там… Замолкаю, грудь вздымается, перевожу дыхание, продолжаю. Джулиано опускает глаза, не перебивает.
Однажды он скажет мне, что тоже тогда взволновался, потому что ни разу в жизни не видел настолько влюбленной женщины. У него была жена, подруга, романы и романчики… но, слушая меня той ночью, он почувствовал, как ему не хватает настоящей любви, которая захватила бы все его существо.
Рассказывает, что он не заканчивал военной академии, служил в спецгруппах, был в Ливане. Рассказал, как однажды не до конца раскрылся парашют. Поэтому сейчас он на земле, занимается конторской работой. Рассмешил меня, сказав, что напичкан железками и, когда в аэропорту проходит через металлический детектор, звенит так, что уши ломит. Говорит:
— Знаете, почему в анекдотах болтают всякую чушь о карабинерах?
— Нет.
— Потому что все это правда.
Лже-Сандро смеется вместе с ним.
Потом он встает, идет к кассе, покупает коробку шоколадных конфет, угощает меня. Свободной рукой ловко снимает обертку, другой придерживая крепко спящего ребенка.
Говорит, что любит фотографию, сам тоже балуется. Спрашивает, нет ли у меня какого-нибудь снимка, сделанного Диего.
Отвечаю, что, кроме ребенка, у меня с собой ничего нет.
— Не получилось заехать в гостиницу.
— А ваш муж?
— Он потерял паспорт…
Протягивает мне свою визитку:
— Если вам что-нибудь понадобится.
Город выступает из мрака — начинается тихий зимний день. Ставни на окнах домов, вывески на магазинах — все на своем месте. Пять утра. Еще немного, и люди поднимутся с кроватей, примут вертикальное положение и начнут заполнять улицы. Возобновятся глупые хлопоты мирного времени. Мусорная машина преграждает нам путь. Мы останавливаемся. Смотрю, как металлическая рука зацепляет баки, поднимает их в воздух, переворачивает. И снова возникает чувство, что я потеряла все.
У дома капитан выходит, чтобы помочь мне с ребенком. Открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но ничего не говорит. Только одно движение — надел свою фуражку. Может, он решил подвезти меня, чтобы не выпустить из виду, и был любезным, чтобы обмануть бдительность. У него взгляд как у охотничьей собаки: такие на первый взгляд без толку бегают по полю, а возвращаются с добычей. Он понял, что здесь все не так просто — а вдруг я украла этого ребенка? — хотел высказаться напрямик, но передумал.
Однажды он скажет, что всю поездку колебался между долгом службы и желанием верить мне. Однажды он скажет: «Когда приходит любовь, закон может отдохнуть».
Дверь открылась бесшумно, скользнув по коврику в коридоре. Жалюзи опущены, затхлый запах, батареи чуть теплые. Со мной только ребенок, никаких чемоданов, которые надо разбирать. На вешалке висит велюровый пиджак Диего с заплатами и узкий красный выходной галстук. Кровавая нить.
Снимаю испачканные в сараевской грязи сапоги, стаскиваю их не наклоняясь, поочередно упираясь ногами в каблук. Все еще с ребенком на руках. Не так обычно возвращаются домой из роддома. Здесь некуда даже положить его, ни детской, ни кроватки, ни пеленального столика. Только пианино его отца, белый диван, который надо бы почистить, и запах запертой квартиры, замороженной в тишине прошлой жизни.
Прохожу мимо ног, ждущих поезда в метро, и вспоминаю, что эти фотографии разонравились Диего, он хотел снять их со стены. Приоткрываю в спальне окно, чтобы проветрить. Кладу ребенка рядом с собой на кровать, не развернув одеяльца, не сняв с себя пуховика. Засыпаю рядом с ним так, как есть, откладывая все на потом, уходя в сон, как крот под землю, в черный туннель без сновидений.
Открыв глаза, ощущаю, что мне трудно пошевелиться, болит все пробуждающееся тело, каждая косточка. Может, потому, что тело расслабилось, перестало защищаться. Сквозь створки ставень проходит свет, и ребенок не спит. Не хнычет, уставился в потолок еще не видящим взглядом.
Я помылась под душем, оставив дверь открытой. То и дело закрывала кран, боясь, что из-за шума воды не услышу плач ребенка. Грязь сошла, соскользнула в отверстие слива. Надела старый, привычный халат. Позвонила папе.
— Алло… — услышала я хриплый стариковский шепот: эти уста, надолго сомкнутые, похоже, разучились произносить слова.
— Это я, папа.
Он дважды прокричал мое имя, громко, будто стоя на краю обрыва.
Я ничего не стала говорить ему о ребенке, сказала только, что вернулась и минуту назад вышла из душа.
Сходила на кухню, вскипятила немного воды, налила в бутылочку. Это было нетрудно, ребенок еще не переворачивается, я не спускала с него глаз. Сейчас он заплакал, и я торопливо отсчитываю порции молочной смеси. Сегодня первый день, когда мы остались одни.
— Ты ранена?
— Со мной все в порядке, разве не видишь?
Обнимает меня, а я не узнаю его рук.
— Как ты похудела!
Он тоже сильно похудел, одни кости остались. Я давно ему не звонила.
— Нельзя же так…
— Прости, папа.
Замер в двери, не хочет входить.
— Нет, я вас не прощу.
С отцом так себя не ведут, говорит, с собакой и то так не обращаются. Он меня этому не учил.