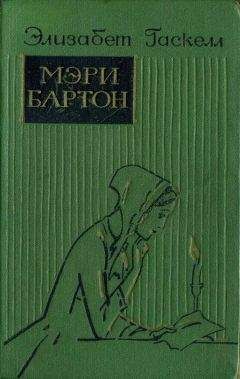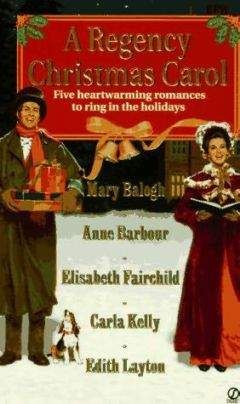– Да вы только взгляните на этот низкий упрямый лоб, на эти опущенные глаза, на белые сжатые губы. Понаблюдайте за ним: он сидит не поднимая глаз.
– Лоб у него кажется низким только из-за того, что на него падают эти густые пряди темных волос, – а так он имеет как раз ту правильную форму, которую некоторые считают хорошим признаком. Если и на всех остальных такие пустяки могут произвести то же впечатление, что и на вас, тюремному цирюльнику следовало бы до суда остричь ему волосы; что же до опущенных глаз и сжатых губ, то это от волнения и никакого отношения к его характеру не имеет, мой дорогой.
Бедный Джем! Неужели даже его черные, как вороново крыло, волосы (которыми его мать так гордилась и которые так часто любила ласково перебирать пальцами) свидетельствуют против него?
Вызвали свидетелей. Сначала это были по преимуществу полицейские, которые привыкли давать показания, знали, о чем им нужно говорить, и не тратили зря время на изложение излишних подробностей.
– Все говорит против обвиняемого – ясно как день, – шепнул один из адвокатских писцов другому.
– Вы хотите сказать, что для него все темно как ночь, – сострил его приятель, и оба улыбнулись.
– Джейн Уилсон! Это кто же? Судя по фамилии, очевидно, родственница.
– Мать. Она должна подтвердить насчет пистолета.
– Ах да… Помню! Нелегко ей это, наверно.
Тут оба умолкли, ибо один из приставов подвел миссис Уилсон к месту для свидетелей. Я часто называла ее «старушка», потому что она выглядела очень старой. На самом деле ей было немногим больше пятидесяти лет, однако несчастье, случившееся с ней в юности и оставившее на ее лице неизгладимый след, сварливый характер, пережитое горе, хромота – все это преждевременно состарило ее. Но сейчас ей можно было дать даже больше семидесяти – такие глубокие морщины прорезали ее заострившееся лицо, так неуверенна была ее походка. Она сдерживалась, чтобы не разрыдаться, и (подсознательно) старалась вести себя так, чтобы не огорчить своего бедного мальчика, который нередко страдал от ее раздражительности. А он сидел, положив руки на барьер и уткнувшись в них лицом (поза, которую он сохранял на протяжении большей части суда и которая многих восстановила против него).
Прокурор начал допрос:
– Вас зовут Джейн Уилсон, если не ошибаюсь?
– Да, сэр.
– Вы мать обвиняемого?
– Да, сэр, – ответила она дрожащим голосом и чуть не расплакалась, но, сделав над собой усилие, снискавшее ей всеобщее уважение, она все же сдержалась, побуждаемая, как я уже говорила, страстным желанием не огорчать сына.
Прокурор приступил теперь к важной части допроса, долженствовавшей подтвердить, что пистолет, обнаруженный на месте убийства, принадлежал обвиняемому. Миссис Уилсон в разговоре с полицейским опознала его настолько решительным образом, что уже не могла взять своих слов назад; итак, пистолет был принесен и предъявлен суду.
– Этот пистолет принадлежит вашему сыну, не так ли?
Миссис Уилсон сжала барьер, стараясь заставить язык повиноваться. Наконец она простонала:
– Ах, Джем, Джем, что же мне сказать?
Все подались вперед, чтобы получше расслышать ответ обвиняемого, хотя ответ его мало что мог изменить. Он поднял голову – на лице его была написана величайшая жалость к матери и в то же время решимость выдержать до конца. Он сказал:
– Говорите правду, мама!
И она послушалась с покорностью ребенка. Никто не усомнился в том, что она говорила правду, и этот короткий диалог между матерью и сыном слегка изменил к лучшему мнение присутствующих о нем. Но это ничуть не тронуло страшного судью; ни один мускул не дрогнул на лицах присяжных, а прокурор умело выделил все, что говорило против обвиняемого, – в том числе и тот факт, что в ночь убийства Джема не было дома.
Допрос наконец окончили и миссис Уилсон сказали, что она может идти. Но, не в силах сдерживать дольше свои материнские чувства, она вдруг повернулась к судье (от которого, как она полагала, зависел вердикт) и прерывающимся голосом сказала:
– Так вот, сэр, я сказала вам правду, истинную правду, как он мне велел. Но неужели слова мои приведут его на виселицу? Ах, милорд, клянусь вам, он не виновен. Уж конечно, я, его мать, которая вынянчила его на этих руках и каждый день радовалась, глядя на него, знаю его лучше, чем все эти люди, – сказала она, указывая на присяжных и изо всех сил стараясь ради своего дорогого сына отчетливо и ясно произносить слова, – ведь они, могу поручиться, до сегодняшнего дня ни разу в жизни не видели его. Милорд, он у меня такой хороший, что я частенько спрашивала себя, есть ли в нем вообще что-нибудь плохое. Начну, бывало, на что-нибудь ворчать (а я частенько ворчу) и тут же попрекну себя: «Неблагодарное ты существо, скажу, господь дал тебе Джема, неужто тебе этого мало». А теперь господь решил покарать меня. Если Джема… Если Джема отнимут у меня, я останусь совсем одна и очень буду несчастна, потому что некого мне будет любить на этой земле, а потому не могу я сказать: «Да будет воля его». Не могу, милорд, никак не могу.
И, произнеся эти слова, она разрыдалась; судебные приставы подхватили ее под руки и вывели из зала, но осторожно и почтительно, ибо большое горе всегда внушает уважение.
А поток улик все ширился, подкрепляемый каждым новым свидетелем, и, набирая силы, грозил захлестнуть бедного Джема. Уже было доказано, что пистолет принадлежал ему, что за несколько дней до убийства он угрожал покойному, что полиции даже пришлось тогда вмешаться, чтобы предотвратить драку. Оставалось только выяснить, что же послужило побудительной причиной для такой угрозы и для убийства. Объяснение этого заключалось в показаниях полицейского, который слышал гневный разговор Джема с мистером Карсоном; его-то отчет об этом разговоре и привел к тому, что Мэри была вызвана в суд.
И сейчас Мэри предстояло выступить в качестве свидетельницы. Зал суда к этому времени уже был набит до отказа, и у всех дверей толпились люди, жаждавшие проникнуть внутрь, ибо многим хотелось присутствовать при этой части процесса.
Сердце у старика Карсона учащенно забилось при мысли о том, что он сейчас увидит роковую Елену, [121] причину всех бед; она интересовала его – ведь покойный ее любил, – и в то же время старик не желал ее видеть. А впрочем, может быть, она по-своему любила того, по ком он так горюет, и тоже оплакивает его? И все же он чувствовал, что ненавидит ее и ее красоту, о которой столько говорят; она казалась ему ниспосланным на его голову проклятьем, он ревновал к ней сына, которому она сумела внушить такую любовь, и если б это от него зависело, то он лишил бы ее даже права скорбеть о безвременно погибшем возлюбленном (ведь, по мнению всех, она была влюблена в красивого, блестящего, веселого, богатого молодого джентльмена, а не в серьезного, даже сумрачного кузнеца, который трудился день-деньской, чтобы заработать себе на хлеб).