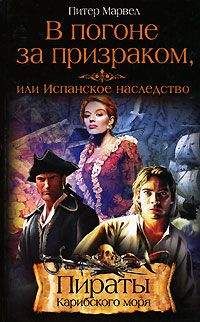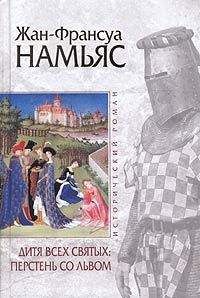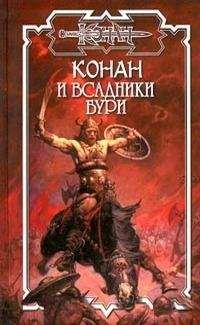Виолончель стояла в дальнем углу комнаты. Я к ней не притрагивался. Однажды зашел Макс Аюб. Он знал о моем решении не играть, но думал, что оно касается только публичных выступлений. При виде задвинутой в угол виолончели, накрытой куском ткани, он был поражен. Я не стал объяснять ему, что под тканью держу горшок с водой, чтобы инструмент не рассохся. Виолончель ни в чем передо мной не провинилась. Если я на кого и злился, то на это время, этот мир и эту жизнь.
Просыпаясь поздним утром, я нехотя спускал ноги с тонкого матраца, несколько минут кашлял, заставлял себя встать и брел через комнату, чтобы одеться. По пути заглядывал в горшок и доливал воды — так заботливый хозяин наполняет кошке плошку с водой. Смычок я хранил под кроватью: от воров, как я сам себя убеждал.
Отказ от занятия, которому посвятил всю жизнь, подобен отказу от глубоко укоренившейся привычки. Первые дни пережить легко. Но вот дальше… Дальше началась подлинная мука. Я стал забывать, что чувствует тело, прижимаясь к изгибам деревянного корпуса. Стиралось ощущение прикосновения струн к мозолям на кончиках пальцев. За эти годы я так слился с виолончелью, что без нее сам себе казался лишившимся способности адекватно воспринимать мир. Из водопроводного крана капала вода, и это капанье доводило меня до безумия. Без музыки уши стали болезненно чуткими к любым звукам. Я обернул кран мочалкой, но оставались другие звуки: шаги людей наверху, скрип кроватей, хрип в груди в результате подхваченного зимой бронхита.
Единственным местом, где мое тело чувствовало себя в покое, где мой разум мог свободно наслаждаться запомнившимися мелодиями, был сон. Я спал по двенадцать часов без перерыва, тем не менее после обеда ложился вздремнуть еще на пару часов. В жаркие дни я сидел в изношенных штанах и влажной нижней рубашке. Когда наступали холода, заворачивался в рваные одеяла, которые волочились за мной, когда я ходил по комнате, полируя на пыльном деревянном полу узкую дорожку.
В дверь стучали посетители. Иногда я отвечал, но чаще не отзывался. Через щель мне запихивали конверты, которые стопкой скапливались на полу. Раз в несколько дней, повинуясь долгу, я вскрывал их в надежде узнать, что хотя бы на одно из сотен ранее разосланных правительственным чиновникам и видным филантропам писем наконец-то пришел содержательный ответ. Но большей частью это были письма от людей, которые ценили мою игру и хотели знать, все ли у меня в порядке, либо скромные предложения от благотворительных организаций. Когда я чуял, что мне грозит рецидив, когда рука начинала дрожать и сама тянулась к смычку, я наказывал, себя устраивая очередной эпистолярный марафон продолжительностью четыре или пять часов, после которого, выдохшись, падал на кровать.
Мне снились сны, и какие сны! Нет, не о норах в песке, этот образ исчез после смерти матери. Не о реальных ночных кошмарах мира: продолжающихся репрессиях в Испании, «хрустальной ночи» и истреблении евреев в Германии, распространении нацизма и фашизма. Мне снились воспоминания начиная с недавних, как кино, прокручиваемое задом наперед. Снилась Авива со скрипкой, ее плавно вздымающиеся и опускающиеся руки, ее широко расставленные ноги. Снились раскачивающиеся, лязгающие и поющие поезда и стук весел на озере Ретиро. Снился затылок королевы и мягкое, влажное тепло Исабель. Снилась толкотня на Рамблас и свет, проникающий сквозь листья платанов, и слепящие блики света в Зеркальном зале Лисео. Ночь за ночью сны приносили мне все то, чего я был лишен днем. Неудивительно, что я с нетерпением ждал, когда снова опущу голову на подушку. При этом я явственно чувствовал, что есть нечто, что питает эти сны, делает их живыми. Нечто такое, что находится где-то рядом, то ли возле трубы, проходящей под кроватью, то ли рядом с хранящимся там же смычком. Тем смычком, что сам выбрал меня, или велел мне, чтобы я его выбрал, или просто попал мне в руки потому, что в то утро я встал раньше всех. Что-то близкое и давно знакомое, как привычный страх: страх прекратить существовать, страх вернуться в то место, что чуть не утянуло меня во время появления на свет, страх самой глубокой тишины, которая терпеливо ждет каждого из нас.
В 1940 году мне исполнилось сорок восемь лет, но я чувствовал себя глубоким стариком, гораздо старее, чем сегодня, когда три с половиной десятилетия спустя рассказываю эту историю. Кто знает, как долго еще я жил бы погруженный в сон наяву, если бы в тот июньский день не раздался особенно настойчивый стук в мою дверь. Трижды я игнорировал этот стук и даже плотнее закрыл окно, не желая, чтобы меня беспокоили доносившиеся снизу крики. Крики стихли, зато меня принялась изводить муха, жужжащая прямо над ухом. Она так мне надоела, что, когда в дверь снова постучали, я пошел и открыл ее, заранее готовый обругать на чем свет стоит паразита, не дающего человеку покоя.
В комнату вошел Аль-Серрас. В каждой руке он держал по стеклянной бутыли емкостью не меньше галлона, наполненной жидкостью цвета сидра. Он молча поставил бутыли на стол, ткнул сжатым кулаком в матрас и с комфортом улегся на мою кровать.
— Скучал без меня?
— Ни капли. — До меня вдруг дошло, что он ни разу не появлялся ни в одном из моих снов. Я хмыкнул: — Похоже, у меня в памяти нашлось место всем и каждому, за исключением тебя.
Он потер бровь.
— Этому есть только одно объяснение. Ты грезишь о своем ничем не примечательном прошлом. А мое место — в твоем будущем.
Он подошел к окну, выглянул в него и снова сел. Затем просветил меня насчет давешнего шума. Оказалось, по всему городу были расклеены листовки, и кое-кто из моих друзей очень хотел, чтобы я ознакомился с их содержимым. Но, зная, что я живу затворником…
— Вовсе не затворником, — возразил я. — Раз в несколько дней я выбираюсь в магазин…
Аль-Серрас вытащил из кармана и развернул листок бумаги:
— «Aux armes, citoyens!» — прочел он и перевел: — «К оружию, граждане!»
— Без тебя знаю, — буркнул я. Это были слова из «Марсельезы», французского гимна. — Что все это значит?
— Это значит, что немцы в неделе марша от Парижа. А может быть, всего в паре дней, все зависит от их страсти к парижской роскоши. Французская армия потерпела поражение. И парижане готовятся к сопротивлению, quartier par quartier, как они говорят: квартал за кварталом.
Он посоветовал мне покинуть город. Исключено, мотнул я головой, и он сказал:
— Ну, тогда пойдем хотя бы пообедаем.
— У меня есть обед.
— Правда? — Он подошел к небольшому буфету, открыл дверцу, обозрел мои жалкие запасы, покачал головой и плюхнулся на кровать, испытывая упругость пружин.