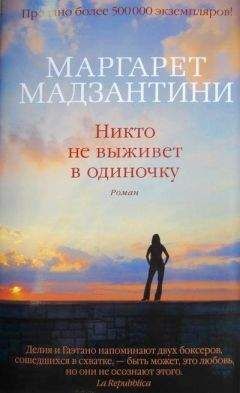— Фу, противно!
Гойко невозмутимо отвечает:
— Небольшая лирическая композиция…
Пьетро смеется как сумасшедший, напрягается, пукает с отвратительным звуком, еще больше по-боснийски, чем Гойко.
— Послушай, какой сонет…
Гойко становится темно-лиловым от смеха.
— Белые стихи! — крякает он сквозь рыдания.
Кричу им, что они свиньи, я не могу с ними ехать.
Снова крутые повороты, посеребренные расщелины, словно седые бороды среди леса.
Теперь мой сын и мой друг снова разделили наушники iPod, и Гойко поет припев песни итальянского поэта, собирающего стадионы.
Жить… жить… жить…
Высокие одинокие деревья похожи на кулисы, закрывающие небо на этой слишком узкой дороге, на которой встречные машины чуть не касаются друг друга и ты чудом остаешься жив.
Чья-то собака, натянутые веревки с бельем, грядки салата, деревенская мечеть. Самая обычная жизнь.
Здесь прошла война со своими орлами и тиграми, с бывшими фанатами белградской «Красной Звезды», скрывшими лица под капюшонами, словно палачи.
Они шли, сжигая деревни, убивая мужчин, насилуя женщин. И только немногие оставшиеся в живых бежали по дорогам, ведущим в другую деревню, с которой произошло то же самое. Смерть продвигалась вперед, веяла всюду, как ветер с моря. Спрашивается, как могут они возделывать эту землю, выращивать помидоры, савойскую капусту, когда ночью удоды, показавшись из леса, снова напоминают о крике душ. О мертвецах, погруженных на грузовики и сваленных в кучу, как мусор.
Гойко рассказывает, что делали оставшиеся в живых все эти годы. Ждали, когда их вызовут для опознания. Выстраивались в очереди перед столом, чтобы посмотреть на останки, сломанные очки, кроссовки «Adidas», куски джинсов «Rifle» или «Levi’s», часы «Swatch».
— Потому что они умерли в наше время и носили те же марки, что и мы.
Пьетро перестал фотографировать.
Сколько времени потребуется, чтобы очистить землю, в которую радиоактивное излучение зла проникло столь глубоко?
Прошло немногим меньше шестнадцати лет — столько моему сыну, сидящему впереди меня, его юному затылку.
Его отец говорил, что затылок хранит запах рождения, ветра, принесшего семя. Как борозда на земле.
Останавливаемся в Мостаре. Пьетро хочет сфотографировать знаменитый мост. Гуляем по переулкам, где булыжники мостовой уложены прямо в глину. Кругом веселье, туристы в шлепанцах, маленькие магазинчики с безделушками.
Город и есть мост, который называли Старым, имея в виду старого друга, хребет из светлого камня, соединяющий две части города, христианскую и мусульманскую. «Старый» прожил почти пять веков, а уничтожили его за пять минут.
Пьетро не понимает, почему католики и мусульмане воевали друг против друга.
— Они же вначале все вместе были против сербов…
Гойко объясняет ему, что ненависть быстро разрастается, как дырка в кармане.
— Под конец уже мусульмане воевали против мусульман.
Мы сели в ресторанчике перед мостом, заказали яйца вкрутую и салат из помидоров и огурцов.
Пьетро рассказывает о пейнтболе — военной игре, в которую он иногда играет с друзьями; они надевают шлемы, маски, защитные костюмы, только стреляют краской.
— Вы играете командами?
— Да, или все против всех.
— Как и мы в конце.
Пьетро смеется.
Восстановленный мост стал шедевром, лучшим образцом реконструированных памятников ЮНЕСКО: он выстроен точно так же, в единый пролет, использованы те же старые камни. Изменилось только его назначение.
Мосты соединяют шаги людей, их мысли, влюбленных, встречающихся посредине. А по новому мосту, кроме туристов, никто не ходит. Жители разделенного города остаются каждый на своей стороне. Мост похож на белый скелет, создающий иллюзию мира.
Муэдзин поет, и его жалобный голос достигает неба, где гоняются друг за другом маленькие темные птички. Гойко, оставив деньги на столе, встает.
— А сейчас с другой стороны начнут звонить колокола, они соревнуются, у кого получится громче.
Пьетро хочет посмотреть на мальчика, прыгающего с моста для туристов. Мальчишка даже чем-то похож на него, такой же худой, с густыми волосами. Забирается на перила, раскрывает руки, точно ангел. Сосредоточивается, немного играет на публику. Тогда его еще не было на свете, а если и был, то совсем маленький. Для него этот мост — способ заработать на жизнь. Бросается вниз, вытянув ноги вместе, совершает впечатляющий полет, с высоты почти тридцать метров, прежде чем войти в воды Неретвы. Мы пережидаем мгновение пустоты, недвижимой и темной реки внизу. Потом показывается голова, мальчишка смотрит наверх, вытаскивает из воды руку и показывает «V», victory, победа. Хлопаем в ладоши вместе с остальными туристами. Его маленький товарищ обходит публику с блюдцем.
Пьетро хочет попробовать спрыгнуть, просит разрешения, говорит, он понял, как надо, начинает даже снимать обувь. Говорю ему:
— Прекрати, иди в машину. Только этого еще не хватало!
Солнце садится, и силуэты деревьев кажутся еще более печальными.
Может, была уже ночь, когда генуэзский парень проезжал здесь, ведя мотоцикл с выключенными фарами, ему это не составляло труда, он привык к темноте в Сараеве. Может, он срезал путь, поехав по лесным тропинкам. Может, Аска была с ним, показывала ему объездные дороги. И на мгновение они появляются передо мной: овечка прижалась к телу Диего, который без всякого проку сделал ее матерью.
Куда они ехали? Может, бежали, и все. Ничего не планируя, разве только во сне.
Может, рассчитывали заработать немного денег, играя на улицах. Да, они, наверное, так и жили бы, как беженцы, в метро, во всех туннелях мира. Аска пела бы одну из своих упоительных севдалинок о грусти и любви… выдувала бы через трубу свою боль боснийки прохожим, стоящим в очереди за билетом. А он аккомпанировал бы ей на гитаре, изредка фотографируя ее, чтобы рассказать что-нибудь о ней самой. Он бы понемногу вылечил ее своим мальчишеским дыханием.
Тот дом и та жизнь, в которые я втиснула его, не были его домом и его жизнью. Он попробовал, но не смог. Однажды он сказал мне: «Я, как собачка в витрине магазина, жду своего покупателя».
Она снова надела бы выцветшую майку с лицом Курта Кобейна… и они поехали бы на мотоцикле, останавливаясь на ночь в кемпингах, просто в поле или в переходе перед закрытым кинотеатром. Пара бродячих артистов, торгующих своим искусством, жонглеров, подбрасывающих в воздух кольца.
Таких часто встречаешь летом и останавливаешься поглазеть с мороженым в руках. Блуждающий взгляд задержался на тебе случайно, выбрав из толпы… одиночество в толпе, одна песня, одна ласка… Так они и жили бы, как хотели, пассивно, избавляясь от послевкусия ада, живя жизнью, углубленной в созерцание себя самой, спасаясь музыкой.